Василий Васильевич
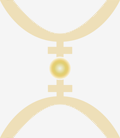 |
СПОНТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ
Глава из книги
Глава III
СМЫСЛОВАЯ ПРИРОДА ЛИЧНОСТИ
1. ВведениеПоказанное в главе I многообразие представлений о личности[1] может служить иллюстрацией к высказыванию психологов в одной из статей в тбилисском четырехтомнике, посвященном проблеме бессознательного. Эта статья начинается словами [Прангишвили, Шерозия, Бассин, 1978]: Является трюизмом, что теория личности, несмотря на огромные усилия, затраченные на ее разработку, остается одним из наименее ясных теоретических разделов современной психологии, областью, в которой меньше единогласия и больше споров, чем в какой-либо другой (с. 337). И сейчас, по-видимому, никто еще не готов к тому, чтобы заполнить эту зияющую брешь не только в философии и психологии, но и культурологии в целом. Остается непонятным, как может развиваться современная, научно ориентированная культура, если сама наука не имеет научной теории личности, пользующейся хоть каким-то признанием. Незнание человека – это, может быть, наиболее сильное незнание в современной науке. Мы также, конечно, не готовы к построению всеобъемлющей теории личности. Наш подход будет ограничен семантическим ракурсом. В соответствии с представлениями герменевтики, мы видим личность, прежде всего, как носительницу смыслов. Личность выступает перед нами как генератор и преобразователь смыслов. Личность оказывается владеющей исчислением смыслов. Личность открыта миру и способна совершать действия, порождаемые новыми смыслами. Эти действия могут становиться всеохватывающими, будучи направленными не только на изменение общества, но и на преобразование Мира. Личность в то же время телесно капсулизирована. Телесность личности мы рассматривать не будем – не потому, что мы отрицаем ее значение в функционировании личности, а потому, что здесь речь идет скорее о технической, если так можно сказать, реализации личности, и, наверное, изучение ее должно быть оставлено нейрофизиологам. Неделимое приходится делить потому, что языки описания двух сторон деятельности должны быть все еще различными. Самым загадочным остается вопрос о том, как стыкуются два существенно различных, но тесно связанных аспекта существования личности. Здесь тайна. Тайна связи материи со смыслами. Может быть, и все неудачи в построении модели личности, имевшие место до сих пор, надо отнести на счет стремления отразить, запечатлеть и разгадать эту тайну. Но на тайну можно только намекнуть. Так пытаемся поступить и мы. Итак, наша модель личности будет только семантической. Мы рассмотрим ниже четырехгранность вероятностного представления о личности:
Трудность в понимании природы личности очевидна. Человеку нужно понять самого себя. Средствами сознания необходимо осознать само сознание. Для этого необходимо выйти за границы самого себя – посмотреть на себя со стороны. Но с какой стороны? Со всех сторон – с позиций философа, теолога, психиатра, психолога, нейрофизиолога, культуролога, историка, социолога, футуролога, писателя, поэта... Кто готов к этому? Кто готов найти язык, чтобы описать все увиденное с единых позиций, отвечающих всему богатству нашего представления о мире? 2. Эго человека как вероятностно заданная проявленность семантического поля
Когда мы встречаем человека и, беседуя и взаимодействуя с ним, узнаем его, то перед нашим внутренним взором возникает его образ, определяющийся прежде всего системой его ценностных представлений. Поэтому естественно считать, что видимая нам индивидуальность человека – его эго – оказывается заданной плотностью вероятности р(μ), построенной на семантической шкале μ. Если вспомнить все нами ранее сказанное о природе текстов, то мы должны будем признать, что человек выступает перед нами как текст или, лучше, как слово – элементарная составляющая текста. Эго – его структура – оказывается смысловой: лингвистической. Раскрываются смыслы эго через его взаимодействие с эго других людей, образующих в своей совокупности тексты более высокого порядка. Напомним, что так же раскрываются смыслы слов обыденного языка – через их проявление во фразах, текстах более высокого порядка. Сам человек по своей сути оказывается языком, так же, как языком оказываются все человеческие взаимоотношения, поскольку через язык они раскрываются, в языке – носителе смыслов – они созревают. Функция распределения, задающая эго человека, может быть иглоподобной или размытой, иногда асимметричной или многовершинной. Этим до некоторой степени определяются типы людей. В процессе жизни функция распределения p(μ) все время меняется или хотя бы слегка флюктуирует относительно центра рассеяния. Жесткое осознание своего эго, задаваемого иглоподобной функцией распределения, может приводить к тому, что человек будет ощущать «малые смерти при переходе от одного момента к другому». Отсюда, возможно, и представление о черных дырах (пустых пространствах) в психопатологии, патологическое состояние боязни жизни и смерти (подробнее описание подобных состояний см. в [Welwood, 1977 а]). Хвостовая часть функции распределения хранит в себе (в подавленном виде) воспоминание обо всем прошлом человека или даже человечества. В состояниях успокоенности и внутренней тишины или, наоборот, в состояниях крайнего напряжения и, наконец, в состояниях, вызванных приемом психоделиков, человек может вернуться в свое историческое или предысторическое прошлое. Возвращение в далекое прошлое[2], связанное с аномальной перестройкой функции распределения Каждому из нас присуще все многообразие семантики Мира, – иными словами, «весь семантический генофонд». Мы носим в себе как изжитое прошлое, так и не реализовавшееся еще будущее, хранящееся также в хвостовой части функции распределения (ради наглядности мы можем считать, что прошлое хранится в левой хвостовой части, а будущее – в правой). Мы можем возвращаться назад или заглядывать вперед, устремляясь в неизведанное будущее. В нашей системе представлений существенна предпосылка о том, что все смыслы Мира изначально упорядочены на шкале μ. Нам часто задают вопрос: что будет, если отказаться от этого постулата и допустить возможность произвольного разупорядочивания смыслов? Дать ответ на этот вопрос непросто. Сам механизм такого возмущения можно представить себе, если допустить динамичность пространства – возможность возникновения в нем геометрических волн, перемешивающих сами точки пространства[3]. Если такое перемешивание произойдет по оси μ, то функция распределения станет невообразимо негладкой – со множеством разрывов в ходе кривой. Некоторое представление о степени такой негладкости можно получить, если взять лист бумаги, на которой была нарисована кривая р(μ), разрезать его на полоски, параллельные оси ординат, перемешать их и склеить в каком-то новом, случайно выбранном порядке. Исчезнет более или менее плавный ход меры по привычно близким нам смыслам. Личность, подвергнувшаяся такому перемешиванию, выйдет из нашей культуры – наверное, она будет признана психически больной. Можно допустить, что на такой, по-новому упорядоченной системе смыслов сможет возникнуть совсем особая культура, с новой структурой ценностей, задаваемой опять-таки своим достаточно гладким распределением меры. Для нас эта культура останется непонятной, будучи наполненной неожиданностями. (Понятным было бы лишь то изменение в культуре, в котором, при неизменной упорядоченности смыслов, изменяется – хотя бы и радикально, – только распределение меры, задающее изменение общекультурной парадигмы.) Здесь уместно поставить вопрос: переживала ли хоть раз история человечества перестройку культуры, связанную с радикальным переупорядочением самих смыслов, а не весов над ними. Наверное, нет – ибо иначе мы говорили бы о том, что были культуры безумных. Но, может быть, Карлос Кастанеда в своих фантазиях именно и ведет речь о возможности представить непредставимое? Здесь мы должны остановиться, так как подходим к тем проблемам, которые, пожалуй, уже относятся к предельной реальности. Одной из примечательных особенностей нашей модели является то, что природа эго оказывается состоящей из двух начал: дискретного – функция распределения вероятностной меры p(μ) и континуального – семантического континуума: шкалы μ, на которой это распределение меры задано. Совсем на другом языке пытается сделать нечто похожее К.Кастанеда, показывая, что личность состоит из двух ипостасей: тоналя и нагваля. Первую из них легко отожествить с нашим представлением о дискретном (капсулизированном) начале, вторую – с представлением о континуальном начале. В книге [Castaneda, 1974] приводятся следующие слова учителя – мексиканского колдуна Дона Хуана:
Теперь несколько слов Дона Хуана о том глубинном начале нашей личности, которое мы склонны отожествлять с семантическим континуумом:
Итак, мы видим, что речь идет о форме – капсулизированности и об исходном – бесформенном ничто, в которое все возвращается. Мы рискнули на математическом языке дать описание соотношения между теми двумя началами, которые Кастанеда называет тоналем и нагвалем. Для нагваля нашелся образ – он оказался выразимым в слове. Обратим здесь внимание еще и на то обстоятельство, что семантическая капсулизация, образующая наше эго, всегда эфемерна. Мы стараемся этого не замечать, но это так. Мы теряем свое эго, засыпая, оно спит и тогда, когда мы видим сновидения. Мы можем потерять или почти потерять его в гипнотических состояниях. Теряем мы эго, переходя в измененные состояния во время глубокой медитации или после приема психоделических средств. Дж. Лилли [Lilly, 1981] показал, как привычная семантическая капсулизация разрушается при полной и продолжительной изоляции[4]. (Его эксперимент может рассматриваться и как прямое доказательство формулы Мерло-Понти (см. гл. I, 6): «сознание – это открытость миру»). Мы часто устаем от жесткости своего эго. Отсюда издревле существовавшее стремление к карнавалам и мистериям (и в такой ослабленной форме, как церковная литургия), стремление к психотропным средствам, а часто и к психоделикам и злоупотреблению алкоголем. Все это неизменные стремления к тому, чтобы хотя бы на время освободиться от бремени эго. 3. Метаэго как источник личностной изменчивости
Если в привычных условиях эго предстает перед нами как некий носитель более или менее установившихся смысловых оценок, то в экстремальных условиях, когда возникает необходимость принимать решение и действовать в острой ситуации у, решающим оказывается выбор фильтра предпочтения p (y/μ). Так, в критических ситуациях приоткрывается скрытая от нашего взора сокровенная сторона личности. Критические ситуации создают те эволюционные толчки, которые приводят к изменению личности (см. рис. 2). Возникает эволюционная цепочка. Априорная функция распределения p1 (μ) переходит в апостериорную p1 (μ/y), которая на следующем этапе выступает уже в роли априорной функции p2 (μ). Вглядываясь в себя в ретроспективе, мы отлично осознаем, что постоянство нашей личности определяется не столько и не только видом функции распределения p(μ), склонной к изменению, сколько способностью выбирать в острых ситуациях у необходимый фильтр p(y/μ), т. е. нашей способностью эволюционировать. Представление о метаэго – высшем и не схватываемом нами непосредственно качестве – приходится сопоставлять со способностью к генерированию нетривиальных фильтров. И если эта способность утрачивается, то можно говорить о перерождении личности. Мы уверенно можем сказать, что на начальное формирование функции распределения p(μ) существенное влияние оказывают как врожденные склонности, так и окружающая среда, воспитание и образование. Но что оказывает влияние на способность порождать нетривиальные фильтры р(у/μ)? На этот вопрос с уверенностью ответить трудно. Ясно, однако, что эта способность в какой-то степени поддается воспитанию. Каждая культура прошлого настойчиво готовила своих будущих героев через инициации на материале мифов и эпоса. 
В современной западной культуре эту роль пыталась взять на себя прежде всего художественная литература и, может быть, отчасти философия. Однако, несмотря на всю привлекательность, скажем, тех героев В.Гюго и Л.Толстого, которые являются исполнителями нетривиальных решений в экстремальных ситуациях, литература – только квазиинициация, так как собственно инициация ценна и действенна непосредственностью свершений (пребыванием в самой ситуации); литература – только модель ситуации, театр, только сопереживание: участие в некоем уже готовом (каноническом) решении, а не само решение, не его порождение – не собственно творческий глубинный процесс. Литература – пример (род умозрения), инициация – опыт (род действия, акт возрождения себя в своих глубинах) Что-то от практики инициации, пожалуй, осталось в науке. Казалось бы, зачем сейчас нужен прямой контакт профессора со студентом – разве недостаточно для передачи знаний современных технических средств? Видимо, нет – нужна еще преемственность, осуществляемая через личное общение, через привлечение ученика к участию в действии – собственной работе мастера. И вот что еще интересно: все психологические тесты, направленные на оценку личности, ни в коей мере не затрагивают принципиальной характеристики личности – способности к порождению нетривиальных фильтров р(у/μ), существенно смещенных по отношению к функции p(μ). И это естественно, так как только сама жизнь (включая действие в ней субъекта), во всем многообразии ее превратностей, может выступать в роли тестовых ситуаций, раскрывающих и обогащающих человека. Нужно признать, что личность раскрывается в трагизме ситуаций, провоцирующих появление нетривиальных фильтров. Здесь наши представления перекликаются с тем направлением современной западноевропейской мысли, которое известно как французский персонализм[5]. Там вводится понятие интегрального героизма, и трагизм рассматривается как изначальная, недоступная рациональному познанию предельность, расширяющая границы личности. Здесь особенно интересны книга Доменака [Domenach, 1967] и критические очерки И.С.Вдовиной [1981], на которые мы опираемся. В парафразе высказывания Доменака звучат так: «Трагедия выводит за пределы привычного понимания добра и зла... Феномен трагичного фундаментален... Трагична не история, а сам человек». И если мы готовы признать, что личность – это текст, через который происходит распаковывание семантического континуума, то нам придется согласиться с тем, что глубина и серьезность процесса распаковки определяются степенью трагичности тех ситуаций, в которых приходится действовать человеку. В понимании трагизма – осмыслении его с философских позиций – прямым предшественником французского персонализма был Ф.Достоевский. Вот перед нами его небольшое произведение Сон смешного человека. Фантастический рассказ [1983], напечатанный им на склоне жизни в знаменитом Дневнике писателя. Попробуем пересказать[6] его так, чтобы передать не только содержание, но и аромат повествования. Рассказ ведется от имени человека, который сам считал себя смешным – ему было «все равно». В один сумеречный осенний петербургский вечер он поздно возвращался домой, готовый покончить с жизнью. Дома, после серьезных рассуждений, он заснул и увидел себя во сне совершившим самоубийство. Сновидение продолжалось:
Дальше идет описание людей этой другой Земли:
И вот что произошло:
Реакция смешного человека:
И теперь началась новая жизнь смешного человека:
В этом небольшом рассказе в художественной форме запечатлен весь опыт писателя, направленный на понимание природы человека. Можно, конечно, давать разные интерпретации рассказанному. Но все они будут неполными и несколько односторонними. Мы ограничимся только двумя:
Но утопия должна оставаться только путеводной звездой. В своем реальном осуществлении – хотя бы в сновидческой реальности[7] – она оказывается немощной, пресной. Может быть, это противостояние надо толковать очень широко – как некую метафору, на которую замыкается трагическое, с трудом поддающееся разумному пониманию. Но все же попробуем приблизиться к осознанию трагического в природе человека. Та трагичность существования человека, о которой здесь идет речь, носит семантический характер. И в этом понимании трагичности ее можно, следуя французским персоналистам, признать фундаментальной составляющей человеческого бытия. Но надо отдавать себе отчет в том, что трагичность неразрывно связана с творчеством – другой фундаментальной составляющей природы человека. Обе эти фундаментальности являются не более чем двумя взаимодействующими друг с другом способами семантического раскрытия личности. Личность, как мы уже говорили, – это особый текст, способный к самореинтерпретациисвоей вероятностно задаваемой структуры. Эта способность делает человека микродемиургом, а демиург должен быть трагичным – что зафиксировано во множестве легенд, посвященных этому мифологическому образу. Творчество должно быть трагичным хотя бы потому, что оно социально, а человек, как мы тоже уже говорили, способен не только к пониманию, но и к непониманию – сопротивлению новому. Сопротивлению не своему, а чужому новому. Отсюда и динамизм в раскрытии смыслов, легко оборачивающийся трагизмом. Несколько иначе об этом же писал и Уайтхед, так остро осознавший творческое начало мира. У него читаем [Whitehead, 1929]:
Вот так мы и ищем новое и в нашей личной жизни, и в искусстве, и в науке, и в социальной структуре общества, оставаясь в то же время погруженными в ностальгию о прошлом. Отсюда и расслоение на тех, кто ищет, и тех, кто непреклонно охраняет старое. Выход из драматизма поиска нового порождает скуку. Скука может стать нестерпимо скучной. Раньше в нашей книге [Nalimov, 1982] мы уже говорили о том, что уровень скуки является одним из серьезнейших показателей состояния культуры. Теперь неожиданно подтверждение этому мы находим со стороны психофизиологии: в книге Пина [Реnа, 1983] говорится о скуке как о разрушающем человека факторе, находящем свое проявление даже казалось бы и в таких чисто соматических заболеваниях, как рак. В нашей модели парное проявление двух начал трагизм–творчество выступает как система типа «тяни–толкай». Новая, достаточно драматическая ситуация порождает новый фильтр, резко меняющий систему смыслов. Неприятие этой системы другими усиливает драматизм, доводя его до трагизма, провоцирующего появление новых, более радикально действующих фильтров. Правда, нарисованная здесь картина отражает скорее всего социальный аспект творчества. Где-то творчество может быть и спокойным, не вызывающим тревоги общества. Кто-то может быть творческой личностью и вне провоцирующего действия среды. Раньше о таких людях у нас говорили: «Он поэт милостью Божьей». Но все же мы – люди – погружены в больший трагизм, чем, скажем, животные. У них он, конечно, есть, но иной – не семантический по своей природе. И если мы готовы начало своей культуры связывать с Афинами и Иерусалимом, то и природа трагизма открылась нам во всей своей полноте благодаря Сократу и Христу. Но здесь возникает новая проблема. Потребность в острых, доходящих до трагизма ситуациях – есть ли это исконное начало Мира, или это только особенность западного мироощущения? Западная культура – подчеркнем еще раз – уходит своими корнями в трагизм: вспомним здесь жанр трагедий, как вид драматургии, в Древней Греции (о его значении много говорят опять-таки французские персоналисты). Вспомним и трагедийность появления самого христианства. Каждый год западный мир отмечает Пасхальный праздник (особенно торжественна его литургия в православии), напоминающий нам об исходно заложенной трагедийности нашей культуры. Оглядываясь на Восток, мы можем остановить свой взор на буддизме. Его основная устремленность – выход из поля страдания (что естественно должно сопровождаться отказом от привязанностей) или, иначе, освобождение от смыслов[8], порождающих трагичность противостояний. Таким образом, христианство и буддизм выступают перед нами как два дополняющих друг друга начала[9]. И в этом ответ на поставленный выше вопрос. Трагичность – устремленность к ней как к пределу самого Бытия, – это в природе человека; так же в его природе заложен протест против нее. И не можем ли мы здесь сформулировать еще такую мысль: смысл и трагичность – синонимы, т. е. слова с взаимосвязанными значениями. Только отказавшись от смыслов, мы можем обрести великий покой. Мы его, наверное, и обретаем, уходя из жизни, погруженной в смыслы. Смысловая трагичность человека поддерживается его нескончаемой озабоченностью будущим. Человек живет не только в настоящем, поддерживаемом прошлым, но и в будущем, постоянно забегая вперед, заглядывая в него. Здесь мы опять вспомним Хайдеггера и его предшественника Августина (см. гл. I, 6). Для Хайдеггера нет времени без человека. Человек вмещает трижды открытую ему протяженность времени[10]. Время создает экзистенциальную структуру заботы. Силлогизм Бейеса неявно впитывает в себя хайдеггеровскую концепцию времени. В том настоящем, где действует силлогизм, прошлое, задаваемое функцией распределения p(μ), мультипликативно смешивается с фильтром р(y/μ), который возникает как спонтанный выбор из необъятного множества потенциально возможных решений. Выбирая то, что еще не было реализовано, человек забегает вперед – готовит новое раскрытие смыслов с непредвидимыми возможными последствиями. Так проявляет себя метаэго. Только для смыслов в настоящем прошлое свертывается по будущему. В раскрытии смыслов, происходящем на глубинном (дологическом) уровне сознания, нет цепочки причинно-следственных связей, порождающих представление о плавно текущем – линейном времени. Время здесь завихряется. Теперь остановимся еще на одной экспликации нашего представления об эго и метаэго. Речь пойдет о понятии установка, глубоко укоренившемся в психологии и философии. Мы, естественно, здесь не можем рассматривать концепцию установки во всей полноте ее развития[11]. Ограничимся здесь только тем, что рассмотрим две интерпретации этого понятия: психологическую, данную в школе Узнадзе[12], и философскую, данную Э. Гуссерлем. В первом случае мы читаем [Беспалько, 1978]:
В нашей концептуализации установка приобретает динамический характер. Происходит взаимодействие исходной смысловой установки (системы предпочтения) p(μ) с корректирующим фильтром р(y/μ), отвечающим данной конкретной ситуации у. Теперь несколько слов о раскрытии смысла понятия установка в философии феноменологии [Гуссерль, 1986]:
И далее идут такие поясняющие слова:
В нашей системе представлений установка – в широком ее понимании, охватывающем стиль жизни в целом, может быть описана также вероятностной функцией распределения, заданной на одномерном линейном семантическом континууме. Детализируя это представление, лучше говорить о том, что установка задается целым семейством корреляционно связанных функций распределения. Частные особенности отдельных функций, образующих это семейство, будут характеризовать индивидуальные семантические состояния личностей, носителей этих функций. Здесь мы уже подходим к представлению огиперличности – многомерном образовании, созданном множеством личностей, объединенных одной культурой, или – лучше – одним слоем культуры. (К этой теме мы вернемся ниже – в разделе 5 данной главы.) Отметим также здесь еще одно важное обстоятельство – хорошо известное представление Т.Куна [1977] о существовании парадигмы в науке можно рассматривать не более чем как частный случай широкого – философского – понимания роли установки в развитии самой культуры. Парадигма охраняет информационную структуру общества или того или иного его слоя от чрезмерного размывания, позволяя концентрировать энергию на определенных целях. Но в то же время она создает торможение всему новому. И здесь мы опять возвращаемся к проблеме трагического. 4. Многомерность личности
Желая углубить наше представление о природе человека, мы можем ввести в рассмотрение многомерность семантического пространства. Скажем, в двухмерном пространстве эго человека становится двухмерным – p(μ1, μ2). Личность оказывается состоящей из двойниковой пары μ1 и μ2, связанной коэффициентом корреляции ρ. С появлением в модели нового параметра распаковка семантического континуума становится более изощренной – веса придаются теперь уже не участкам числовой оси, а участкам плоскости, задаваемой осями μ1 и μ2 (см. рис. 3). С увеличением размерности личности изощренность распаковки естественно увеличивается[13]. Мы начинаем всматриваться в семантический мир через несколько связанных между собой окон. Остановимся подробнее на рассмотрении двухмерной личности[14]. Если ρ = 0, то две линии регрессии, связывающие μ1 и μ2, оказываются ортогональными, и мы имеем дело с абсолютно неупорядоченной личностью, что может носить и патологический характер. В этом случае личность готова выступать как абсолютно раздвоенная. В крайних своих проявлениях такое раздвоение может приводить к тому, что в разные моменты времени могут проявлять себя разные составляющие личности, при этом одна из них может быть не осведомлена о мотивах другой. Может сложиться такая ситуация, что две личности будут порознь эксплуатировать одно и то же тело. Подобная ситуация подробно описана в книге американского психиатра Дж. Бирса ([Beahrs, 1982], с. 202–222). Речь здесь идет о некоем Кине Бианки, который в обыденной жизни был вполне респектабельным и уважаемым человеком, а в другой – в скрытых своих проявлениях – садистом и убийцей. При судебном расследовании, в котором принимали участие два психиатра (один из них – выдающийся специалист в области множественной личности (multiple personality), другой – в гипнозе), сложилась неясная ситуация. Первый из психиатров был уверен в том, что это типичный случай проявления множественности личности – в его гипнотических сеансах этот пациент, выступавший уже под именем Стива, отличался особенностями поведения и языка, свидетельствующими о том, что налицо другая личность. Об этом же свидетельствовали и испытания с тестом Роршаха. В то же время другой психиатр остался убежденным в том, что здесь не более чем преднамеренная симуляция. И далее автор говорит, что интерпретация результатов исследования существенно зависит от настроенности самого терапевта:
С правовой точки зрения эти две интерпретации диаметрально противоположны. С позиций нашей модели они свидетельствуют лишь о различных, видимо трудноразличимых вариантах раздвоенности. Состояния эго столь разнообразны, а невербальная коммуникация столь богата и происходит на стольких уровнях, что любая из сторон вряд ли могла бы произвольно контролировать свои ответы. «Врачующая личность» – это такая личность, чьи латентные эго-состояния вызывают в другой личности положительный отклик даже без явных дружеских отношений. С таким человеком мы чувствуем себя легко и удобно и доверяем ему, даже не вполне понимая почему (с. 219).
Мы видим, сколь трудной может оказаться реально наблюдаемая ситуация. Естественно, что модель может охватить лишь самые общие контуры происходящего. Теперь рассмотрим другие варианты многомерности личности. Когда /ρ/ = 1, то двухмерное распределение вырождается в одномерное. Оси μ1 и μ2 оказываются жестко спроецированными на одну – общую – линию регрессии. Две составляющих личности становятся вложенными друг в друга со смещением, задаваемым уравнением регрессии. Раздвоенность найдет свое выражение не в отчетливо различаемой расчлененности, а в наложенности. С позиций постороннего наблюдателя смыслы такой личности окажутся смещенными в своей спутанности. Личность сможет обрести целостность, если линия регрессии будет выходить из начала координат и угол ее наклона станет равным 45°. Если теперь попытаться рассмотреть облик двухмерной личности с коэффициентом корреляции, не принимающим свои крайние значения, то можно будет говорить, что при ρ > 0 две ее составляющие будут выступать как семантические «синонимы», а при ρ < 0 – как «антонимы». Абсолютное значение коэффициента корреляции предстанет как мера синонимичности, или, соответственно, антиномичности. Надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что личность – это не столько устойчивое состояние, сколько процесс. Поэтому рассмотренные выше варианты облика двухмерной личности в общем случае являются не жесткими классификационными категориями личности, а лишь описаниями возможных ее неустойчивых состояний. Устойчивые расщепления такого типа, как это имело место в случае описанного выше пациента Кина Бианки, несомненно надо считать уже патологией. Таким образом, мы готовы защищать тезис о том, что именно способность к вариабельным расщеплениям личности – это показатель ее гибкости, тогда как жестко фиксированные навязчивые расщепления – это уже то, что можно рассматривать как патологию. Хотя, конечно, границы здесь далеко не всегда могут быть четко установлены. Обращаясь к предложенной выше модели, надо, конечно, проявлять известную осторожность. Мы должны отдавать себе отчет в том, что представление о вероятностно задаваемой многомерности в нашем случае не может быть столь же наглядно ясным, как это имеет место в технических применениях. Наше описание многомерности личности носит, несомненно, глубоко символический характер. Модель у нас выступает как незамаскированная метафора – в действительности все так и не так, как задается моделью. Надо отдавать отчет и в том, что связь между случайными величинами μ1 и μ2 может быть и нелинейной, тогда все сказанное об интерпретации числовых значений коэффициента корреляции теряет свою определенность. Все должным образом усложняется при введении представлений о высокой многомерности, хотя, конечно, исключить возможность появления существенно многомерных личностей нельзя. Наша попытка моделирования личности, может быть, и интересна прежде всего тем, что показывает все те трудности, с которыми здесь приходится сталкиваться. Теперь, после сделанных выше предупреждений, мы попробуем привести еще ряд примеров, углубляющих смысл нашей модели. Прежде всего обратим внимание на тот очевидный факт, что все личности, представляющиеся нам душевно здоровыми, практически всегда оказываются погруженными во внутренний диалог. Диалог с кем? – с самими собой. Но такой диалог возможен только тогда, когда личность способна к саморасщеплению на участвующие в диалоге субличности. Чтобы быть способной к такому расщеплению, личность не должна быть слишком жестко зациклена на одной смысловой установке. Сказанное здесь можно иллюстрировать словами М.Джослина [Joslyn, 1975], взятыми из той его статьи, где он пытается сблизить гештальт-философию с философией дзэн:
Мы видим, что открытый миру человек – это своеобразная фабрика по переработке смысловых оценок. Способность к непрекращающемуся диалогу, порождаемому многообразием вариантов вероятностно задаваемых расщепленностей, – это одна из основных семантических особенностей человека. В отличие от всякого существующего (или мыслимого) компьютера, человек всегда способен находить оппонента в самом себе – оппонента разной степени близости или удаленности от самого себя. Когда мы говорили об эго, задаваемом функцией распределения p(μ), то имели в виду прежде всего оценку, даваемую личности со стороны внешнего наблюдателя – собеседника. Это действительно ложная или, скорее, иллюзорная, оценка единства. Обращаясь же к диалоговой расщепленности личности, мы пытаемся проникнуть в тайну самого мышления. Если теперь обратиться к художественной литературе, то придется признать, что все герои одного автора корреляционно связаны между собой. Образуя одну многомерную личность, они создают то множество двойниковых пар, из которых в конце концов и вырисовывается облик самого автора. Если степень коррелированности между ними велика, то двойники малоразличимы и потому неинтересны. Однако и при всем возможном многообразии двойников за ними всегда угадывается личность автора, как бы многомерна она ни была. Самое яркое тому свидетельство – Ф.Достоевский. Он выступает перед нами как личность, раскрывающаяся в семантическом пространстве высокой размерности. Весьма симптоматично то, что Достоевский считается одним из предшественников экзистенциализма. Он был не только и не столько писателем, сколько мыслителем. Философствуя через художественную прозу, он всю жизнь размышлял о смыслах, связанных с бытием человека в Мире. Его герои то окрашивались в христианские тона, то становились демоническими противоборцами. Все это выглядит как отображение в прозе диалога двойниковых пар (скажем, Мышкина и Рогожина, Раскольникова и Сони Мармеладовой), выкристаллизовавшихся в сознании самого автора. Диалог внутри самого себя Достоевскому был нужен, по-видимому, для того, чтобы ответить на фундаментальный вопрос: как возможно воплощение христианства в реальной жизни для человека, погруженного в противоборство смыслов. Отметим здесь и еще одно обстоятельство – именно писатели, а не психологи обратили внимание на то, что в серьезных, надрывных ситуациях человек должен отобразить одного из своих двойников вовне. Визуализировать его сидящим напротив. Так будет больше отчуждение. И нельзя ограничиться тем, чтобы назвать это проявление галлюцинацией. Все гораздо серьезнее – здесь, может быть, не просто психическое заболевание, а психологический прием, направленный на очищение – катарсис, потому и нужно большее отчуждение от самого себя в диалоге с самим собой. Вспомним, как у Ф.Достоевского в Братьях Карамазовых описывается появление черта – двойника Ивана Карамазова [1976]:
С ним Иван ведет беседу:
Черт отвечает Ивану:
И вот одна из реплик Ивана:
С этим почти соглашается черт:
И как все же Иван оценивает черта, когда вспоминает о том, что он сам сочинил анекдот, рассказанный ему теперь чертом:
Еще одним примером двойникового состояния подобного типа может служить обстоятельное описание беседы со своим двойником композитора Адриана Леверкюна в романе Т.Манна Доктор Фаустус [1960]. Этот удивительный диалог является центральным пунктом во всем романе – он задает весь трагизм последующих событий. Может быть, описанные здесь диалоги можно рассматривать как одно из проявлений «просветленного сновидчества» – когда спящий отчетливо осознает, что он видит сновидение и что это переживание отличается от обычного опыта активной жизни[15]. Ч.Тарт [Tart, 1984], опираясь на свой ранее опубликованный обзор, дает следующее определение просветленному сновидчеству:
Просветленным сновидчеством, наверное, можно считать и опыт путешествия в чужое тело, ранее кратко описанный нами в гл. I, 2 Б. Можно также высказать мысль о том, что наши обыденные сновидческие состояния являются не более чем частным случаем просветленного сновидчества. Наше сознание, по-видимому, изначально всегда двухмерно хотя бы потому, что есть одна – дневная – составляющая, заданная парадигмой культуры, и другая – ночная, несущая черты архаического прошлого. В ночном состоянии сознания мы ближе к потребностям своего тела и к окружающему нас чисто физическому Миру. Это состояние сознания, сохраняя примитивность первобытного, ярче и острее воспринимает угрозы организму и потому обладает прогностичностью, которую не всегда может с него считать дневное сознание. Оба состояния сознания находятся в ортогональной расщепленности; надо думать, что именно поэтому и выработалась система их поочередного функционирования. Однако возможны и такие острые жизненные ситуации, когда две составляющие личности начинают вести явный и осознанный диалог. Мне лично пришлось пережить такую ситуацию. Возможно, что неврозы и другие более сильные неполадки в существовании современного человека именно и связаны с тем, что две составляющие личности, эволюционно развивавшиеся как две взаимно коррелированные структуры, теперь оказались ортогонализированными. Фрейд, как бы мы ни относились к его общефилософским построениям, важен тем, что увидел и оценил удивительно остро вторую составляющую личности и пытался (в психоанализе) установить с ней контакт. Правда, фрейдовская интерпретация второй личностной составляющей приобретает резко выраженную сексуальную окрашенность и становится доминирующим началом бытия человека. Речь у него не идет о многомерном истолковании личностной структуры. Двойное осознание самого себя достигается и в шаманском трансе. Вот что об этом пишет Питерз [Peters, 1981]:
Реинкарнационные воспоминания, по-видимому, также можно рассматривать как проявление дуальности сознания. Раньше (см. гл. I, 2Б) мы уже немного говорили об обстоятельном изучении этой проблемы, проводимом Стивенсоном, пользующимся преимущественно рассказами детей раннего возраста. Теперь появляются некоторые, правда, довольно скудные сообщения о сновидческих воспоминаниях взрослых. Вот как этот синдром описывает Рого [Rogo, 1984]:
После фундаментальных исследований Стивенсона, упоминавшихся ранее, мы не можем не считаться с реинкарнационными воспоминаниями как с реальными феноменами нашего бытия. Во всяком случае, оказалось возможным проверить их содержание со всей возможной строгостью. Здесь речь идет о спонтанном возникновении второй – обычно неустойчивой – составляющей личности, как бы спроецированной из прошлого в настоящее. Сюда же относится явление, известное под названием ксеноглоссия. Один из таких случаев, в деталях описанный Стивенсоном [Stevenson, 1974], касается американской домохозяйки, которая в гипнотическом состоянии трансформировалась в мужскую персону, говорящую по-шведски и понимающую этот язык на уровне высокоинтеллектуального общения. Отмечается, правда, что в литературе имеется мало описаний хорошо документированных случаев подобного рода. Во второй книге Стивенсон [Stevenson, 1984] рассказывает в деталях еще о двух случаях ксеноглоссии. В одном из них переход к другой персональности осуществлялся без использования гипноза – спонтанно. Второе – иноязычное состояние персональности сопровождалось проявлением детального знания о жизни в стране прошлого рождения. Теперь вернемся еще раз к художественной литературе. Ранее в нашей книге [Nalimov, 1982, гл. 16] мы уже говорили о том, что многие поэты (Гёльдерлин, Блок, Гумилев и др.) сообщали о своей глубокой причастности к культурам прошлого, которую они переживали как реальную часть своего бытия. Здесь опять мы видим отчетливое двойникование личности. Личность живет не только в сейчасности настоящего, но и в сейчасности прошлого. Отметим также, что расширение границы личности часто сопровождается персонализацией ее двойников. К.Г.Юнг – психиатр, психолог и философ – описывает нам свой собственный опыт взаимодействия с бессознательным, в котором в одном случае глубинные слои личности оказались персонализированы в трех мифологических фигурах: старый человек с белой бородой – мужское начало, пророк Илия; слепая девушка–женское начало (анима), Саломея; черный змей – двойник героя, постоянный мифологический персонаж. С позиций врача, говорит он [Jung, 1963], это можно рассматривать как психоз, хотя в то же время это есть и матрица мифопоэтического воображения, «которое исчезло из нашего рационального века» (с. 188). В мифологии представление о корреляционно связанном двойнике нашло свое выражение в образе андрогина – различные интерпретации этого образа мы находим, кажется, во всех развитых мифологиях мира [Cooper, 1978]:
Отметим здесь, что при попытке представить себе образ Бога теологии приходилось обращаться или к апофатическим построениям (например, Дионисий Ареопагит – см. выше гл. I, 3), или к представлениям о безграничной многомерности (иначе – многоликости). Так, скажем, у Николая из Кузы читаем [Николай Кузанский, 1980]:
В Коране Аллаху дается около ста эпитетов. Вот некоторые из них (в подборке и переводе, любезно подготовленном востоковедом В.В. Мошкало): первый, самый главный, конец, последний, сокровенный, истинный; мстящий, воздающий, карающий; милостивый, милосердный; величественный, великолепный, всеобъемлющий; богатый; умерший мученической смертью; сильный, могучий; вечно живущий, бессмертный; довольствующийся малым; страж, хранитель, праведный; открывающий двери счастья, препятствующий, мешающий, благотворный; свет, сияние, редкий, исключительный. Ясно, что такое многообразие эпитетов, выглядящих с наивных позиций подчас противостоящими друг другу, может быть осмыслено только в многомерной, вероятностно задаваемой связанности. Величие оказывается задаваемым многомерностью. Американский психиатр X.Роум [Rome, 1984] в своем размышлении о проблеме множественности личности обращает внимание на псевдоантропологические книги упоминавшегося уже нами автора – Карлоса Кастанеды[16]. Мексиканский колдун Дон Хуан обучает своего ученика антрополога Кастанеду необычному вúдению реальности. Так двухмерность личности создается нарочито через обучение. Эта форма проявления двухмерности опять напоминает просветленное сновидчество. Наконец, здесь надо упомянуть еще и об издревле существовавшей практике самосовершенствования. Аскет-отшельник, в соответствии с избранным им идеалом, сознательно расщепляет свою личность на две корреляционно связанные составляющие. Одна из них – негативная – обычно визуализируется в виде беса, демона и пр. Если аскету удается совершить некоторую психологическую операцию, которая на математическом языке звучала бы как поворот координатных осей, ортогонализирующий случайные величины μ1 и μ2, то он нежелательную составляющую может безболезненно отбросить. (Пример: евангельская притча об искушении Христа дьяволом.) По-видимому, что-то похожее делается в современной терапии, когда пациента сознательно заставляют вызывать негативные эмоции (упражнение в страдании) с тем, чтобы расщепить личность и затем отбросить нежелательную составляющую [Wortz, 1982]. Медитация – это, конечно, также один из способов расширения размерности семантического пространства личности. Если хотите, медитацию можно рассматривать как некоторую форму самогипноза, пользуясь которым медитирующий разрушает свою личностную семантическую капсулу и отправляется в путешествие вглубь семантических пространств. Путешествуя, он порождает новые составляющие своей личности, способные перестроить и такие фундаментальные для нас формы восприятия Мира, как физические пространственно-временные ограничения. Отсюда и возможность появления того, что мы готовы воспринимать как реинкарнационные воспоминания. Расщепление личности здесь не носит патологически удручающего характера. Выходя из медитации, медитировавший чувствует себя обогащенным, обновленным, часто творчески наполненным. Он начинает понимать, что его личностные возможности шире той капсулизации, в которую он погружен в силу необходимости существовать в некоей данной культуре [Nalimov, 1982]. Расширение личностной семантики – это важно нам подчеркнуть – происходит не за счет размазывания функции распределенияp (μ), а за счет перехода к осознанию себя многомерной личностью, несущей различные, но корреляционно связанные смысловые ориентации. Нечто похожее описывает С. Гроф [Grof, 1976], наблюдая за состоянием пациентов при ЛСД-терапии. (Сравнение наблюдений Грофа с нашими наблюдениями, относящимися к медитативным состояниям, дано в книге [Nalimov, 1982].) Проблема множественности личности сама имеет множество аспектов. Ее можно изучать в плане чисто психологическом или, пожалуй, даже в философском, в плане антропологическом или историко-культурологическом, обращая внимание на опыт развития символико-магического сознания, часто выражающегося в разного рода ересях и культах, включая и культ ведьмовства. Одним из новых аспектов этой проблемы стало медицинское признание ее возможных патологических проявлений. В последние годы психические расстройства множественной личности получили признание в американской психиатрии – в 1980 г. это заболевание было внесено в классификацию DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual-III). В статье Клафта [Kluft, 1984][17] указывается, что в библиографии по этой проблеме, опубликованной в 1983 г., содержится уже 350 наименований. Сам Клафт дает следующее описание синдрома расстройства множественной личности:
Не будучи психиатром, не беру на себя смелость подробнее останавливаться на рассмотрении чисто медицинских аспектов проблемы. Стоит только отметить, что появление последних выдвигает ряд новых вопросов[18]. Один из них может прозвучать так: где же граница между широтой личности, с одной стороны, и возможным ее психическим заболеванием – с другой? Очевидно, что четкого ответа нет. Граница здесь стирается так же, как она стирается подчас между гениальностью и психопатологией – этот последний вопрос, кажется, опять стал серьезно обсуждаться (см., например, книгу Р.А.Прентки [Prentky, 1980]). Обратим внимание только на следующее обстоятельство – как можно, не прибегая к представлению о многомерности личности, объяснить двухтысячелетнюю историю Европы? Там, с одной стороны, глубоко впечатавшийся евангельский идеал, с другой – море пролитой крови и возникновение капитализма[19], явно не совместимого с евангельским идеалом бедности и простоты жизни. Не читаем ли мы в Евангелии от Матфея:
А как можно понять само христианство, соединившее суровость, подчас даже жестокость и национальную ограниченность Ветхого Завета со вселенской широтой и всепрощением Нового Завета? Если считать, что многомерность личности – это всегда болезнь, то не была ли изначально больна Европа? Заканчивая этот параграф, мы приведем несколько наиболее интересных высказываний ранее уже упоминавшегося нами американского психиатра Дж.Бирса [Beahrs, 1982]:
Я полагаю, что диссоциация существенна для здорового функционирования; кроме того, я считаю, что это – творческий акт...
Высказывания Бирса интересны для нас прежде всего потому, что они попадают в резонанс с нашими соображениями, хотя мы действовали независимо – он исходил из психиатрической практики, мы – из модели, задаваемой дедуктивно. О многомерности личности можно говорить и в плане чисто нейрофизиологическом. Правда, здесь все гораздо сложнее – все оказывается скрытым от непосредственного, повседневного наблюдения. Поэтому тема остается недостаточно разработанной, хотя относящиеся сюда данные представляются весьма интересными. Мы приведем их почти без комментариев. Прежде всего напомним высказывания Рамачандрана (см. гл. I, 2 Б) о том, что пациент после хирургического рассечения правого и левого полушарий головного мозга ведет себя при психологических тестированиях так, как будто бы в нем воплощены две сферы сознания. Двухмерность сознания в условиях нерассеченного мозга, не обнаруживаемая непосредственно, оказывается обусловленной особенностью устройства тела. Рассечение ортогонализирует две составляющих сознания, делая их доступными раздельному наблюдению. Рассматривая тело человека в плане его эволюционного развития, можно говорить и о трехмерности сознания человека. Здесь мы приведем следующее высказывание Р. Маклейна [MacLean, 1983]:
Заметим, что здесь, с одной стороны, говорится об иерархической, т. е. о послойной организации мозга (в статье это иллюстрируется многими рисунками), с другой – о совместной контролируемости нашего функционирования тремя различными умами, что хочется уже интерпретировать как представление о семантической трехмерности сознания. Теперь мы хотим обратить внимание на высказывания Б.И.Котляра, пытающегося подойти к построению концепции функционального полиморфизма мозга. Он пишет [1986]:
Нам представляется, что все сказанное выше нуждается в серьезной математической реинтерпретации. Может быть, здесь уже надо обращаться к представлению о функциональных пространствах[20] Но какую роль при этом надо отводить каждой клетке? Как можно интерпретировать получение крос-спектров ЭЭГ человека, свидетельствующих о дистанционной синхронизации спектральных плотностей? Как может быть связано представление о семантической многомерности личности с функциональным полиморфизмом мозга? Удастся ли когда-нибудь содержательно ответить на поставленные здесь вопросы? Заканчивая этот раздел книги, хочется с чувством глубокого уважения и благодарности вспомнить Нину Толль-Вернадскую, дочь В.И. Вернадского, значительную часть своей жизни прожившую за границей, сначала в Западной Европе, потом в США. Как врач-психиатр она вела прием пациентов до последних дней своей долгой жизни; она сама разыскала меня, прочитав мою книгу о языке, изданную на английском. Началась интенсивная переписка – проблема множественной личности ее особенно интересовала. Она посылала мне соответствующую литературу, и эта тема подвергалась многократному обсуждению в наших письмах.
5. Гиперличность
Теперь настало время рассмотреть личность с позиций межличностных отношений. Сейчас, пожалуй, становится ясно, что облик личности во многом определяется тем, как она входит в межличностные отношения. Вот, например, высказывание К. Ямамото [Yamamoto, 1984]:
Мы будем рассматривать межличностные отношения как процесс, приводящий к образованию гиперличности – структуры межличностной, не локализуемой в одном-единственном теле. В простейшем случае гиперличность – это двухмерная функция распределения р(μА, μВ). Здесь две отдельно существовавшие личности А и В, характеризовавшиеся собственными функциями распределения р (μА) и р(μВ), объединяются в одну, вероятностно задаваемую структуру, локализующуюся теперь одновременно в двух телах. Мы на самом деле не знаем того, как происходит такой процесс агрегирования – образование из двух или многих личностей одной гиперличности. Поэтому ограничимся здесь лишь рассмотрением отдельных примеров, показывающих правомерность представления о гиперличности. Любовь или хотя бы влюбленность своей силой может создать гиперличность, если даже коэффициент корреляции между вероятностно задаваемыми структурами двух личностей А и В оказывается близким или даже равным нулю. Но такая гиперличность неустойчива. Устойчивость может возникнуть только тогда, когда сила чувств оказывается достаточной для такой перестройки гиперличности, при которой коэффициент корреляции приобретает существенное значение, может быть, даже начинает приближаться к единице. Катастрофически большое количество разводов в наше время – не является ли это свидетельством того, что семантическая капсулизация личности стала столь глубокой, что силы чувства больше не хватает для преодоления ортогональной расщепленности? Тантризм в тибетском буддизме – детально разработанное, но не легко поддающееся пониманию учение (см., например, [Blofeld, 1970]). Практика тантризма направлена на слияние двоих в одну космическую пару (посредством использования сексуальной энергии). Здесь применяется издревле ритуализированная техника, затрагивающая физическую, духовную и эмоциональную сферу человека (см., например, [Gold & Gold, 1978]). По-видимому, образование двухмерной гиперличности ослабляет силу личностной семантической капсулизации, и тогда личность становится открытой для свободного взаимодействия с исходным семантическим пространством. Теперь обратимся к гипнозу. Гипнотизер впечатывает в гипнотизируемого свою систему ценностных представлений. Из двух личностей, локализованных в разных телах, создается одна – гиперличность, со свойственной ей единой семантической доминантой. По словам Л. Шертока [1982]: Гипнотизируемый воспринимает внушения гипнотизера так, словно они исходят не от другого лица, а от него самого. Как только эта стадия достигнута, гипнотическое состояние уже достаточно углубилось и отношения с окружающей средой могут быть восстановлены без риска нарушить состояние гипноза: внешние стимулы проникают в сознание, но они теперь отфильтрованы, перестроены в соответствии с полученными внушениями (с. 109). В нашей терминологии это значит, что ценностная система гипнотизируемого р(μА) оказалась замененной ценностной системой гипнотизера р(μВ). Здесь гипнотизер становится демиургом, порождающим фильтры р(у/μ), действующие на исходную, вероятностно взвешенную систему гипнотизируемого. Эту перестройку мы можем рассматривать как процесс, развивающийся на семантическом поле. Шерток говорит [там же]:
Сейчас, кажется, не вызывает возражений сопоставление гипноза со сном, хотя бы в плане чисто эвристическом [Прангишвили, Шерозия, Бассин, 1978]. Можно, пожалуй, сказать, что гипнотическая пара во многом напоминает состояние просветленного сновидчества, поскольку глубоко загипнотизированный субъект всегда сохраняет в себе и скрытого наблюдателя [Beahrs, 1982]. Только здесь двухмерность задается составляющими, локализованными в разных организмах. Особый интерес представляет так называемый взаимный гипноз (ранее мы его уже обсуждали в книге [Налимов, 1979]). Он состоит в том, что субъект А гипнотизирует субъекта В, а последний, будучи в состоянии гипноза, в свою очередь гипнотизирует А. Такая процедура взаимного гипнотизирования воспроизводится циклично и естественно при этом углубляется. Наиболее впечатляющим и пугающим участников этого процесса результатом становится ощущение полного слияния друг с другом. Вот что пишет Ч. Тарт [Tart, 1969]:
Чтобы разрушить такую искусственно созданную гиперличность, нужны усилия сильного гипнотизера. Тарт говорит, что ему известен и аналогичный результат слияния и потери индивидуальности при совместном приеме ЛСД супружескими парами. Гипноз, так же как и самогипноз, в своих мягких и почти незамечаемых формах, по-видимому, оказывается обычным явлением в нашей повседневной жизни. Ареной деятельности здесь становится семантическое поле, на котором происходит взаимодействие личности с собой и с другими. Восприимчивость к гипнозу – это показатель гибкости личности, ее способности образовывать не только гиперличность, но и мультиперсональную личность. Вот несколько интересных высказываний по этому вопросу Бирса [Beahrs, 1982]:
Теперь перейдем к обсуждению процедуры психоанализа, опираясь на уже упоминавшуюся книгу Шертока [1982]. Это также углубление межличностных отношений. Психоанализ можно рассматривать как долговременное внушение, которое может осуществляться и на внеязыковом уровне – через содержательное молчание аналитика. Во всяком случае, сама ситуация здесь не лишена гипногенных (а мы бы сказали, и медитативных) элементов: «сосредоточенность», «молчание», «положение лежа», «тишина». В нашей системе представлений здесь опять речь идет о порождении гиперличности. Об этом свидетельствует сам феномен трансфера, открытый Фрейдом. Цитируя Ф.Рустана, Шерток пишет, что принцип трансфера состоит в том, чтобы пациент и аналитик никогда не разделялись, «оставаясь всегда соединенными друг с другом, образуя единое существо, или, вернее, находясь друг в друге» (с. 182). Примечательно то, что время, необходимое для порождения гиперличности, в технике психоанализа непрерывно увеличивается и теперь уже может, по словам Шертока, достигать десятилетия (с. 224). Если опять вернуться к рассмотрению состояния взаимогипнотизируемости, то что-то очень похожее мы увидим в мистериях древности, которые одно время пытались возродить хиппи в США[21], сочетая оглушающую музыку с приемом психоделических таблеток. Так же можно интерпретировать поведение возбужденной толпы в экстраординарных ситуациях, порождающих единство действия, часто очень жестокого и необъяснимого в ретроспективе для каждого отдельного субъекта с позиций его собственных ценностных представлений. И, наконец, так же приходится объяснять и нелепость крестовых походов, особенно детских, в Средние века, и безумие нацизма в наши дни, как, впрочем, и необъяснимую нелепость Первой мировой войны. Здесь хочется привести две цитаты из книги Т. Манна [1960]; первая из них касается начала этой войны, а вторая – конца нацизма:
Проклятие, проклятие погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей!.. Не была ли эта власть в своих словах и деяниях только искаженным, огрубленным, ухудшенным воплощением тех характерных убеждений и воззрений, которые христианин и гуманист не без страха усматривает в чертах наших великих людей, людей, что наиболее мощно олицетворили собой немецкий дух? Я спрашиваю – не о слишком ли многом? Увы, это уже не вопрос! (С. 622.) Во всех этих случаях эмоционального насыщения идея, находившаяся вне индивидуального контроля, становится объединяющим началом, порождающим гиперличность в ее всенародном и трагическом проявлении. Моделью поведения оказывается евангельская притча об изгнанных бесах, которым было разрешено войти в стадо свиней:
Все, погибая, образовали одну гиперличность. Заканчивая этот параграф, хочется остановиться на мифах древности, которые допускали как само собой разумеющееся представление о гиперличности, которая может проявлять себя как нечто целое, состоящее из корреляционно связанных частей, имеющих и свое индивидуальное лицо. Троица – основной миф христианства; представление о тринитарности высшего начала мы находим у греков, римлян, кельтов, скандинавов и др. [Cooper, 1978, с. 181]. Итак, мы видим, что межличностные отношения могут иметь два различных модуса. Один из них – уровень внешних коммуникаций, являющийся, пожалуй, типичным для нашей культуры. Человек взаимодействует с другим на деловом – логически структурированном уровне, оставаясь замкнутым на самом себе, сохраняя в неприкосновенности свою селективно взвешенную систему смысловых представлений р(μ). (Пример: в научных спорах, религиозных и даже философских диспутах, несмотря на всю их напряженность, все может кончаться ничем – каждый остается в капсуле своих собственных смысловых представлений.) Другой модус взаимодействия – трансперсональный. Это – размыкание индивидуума, переоценка его смысловых позиций, позволяющая создавать гиперличность, иногда и зловещую по своему проявлению. Образование гиперличности может быть и деликатным процессом – когда личность человека не растворяется в ней полностью, а только смыкается с ней одной из множества своих составляющих. Но для этого исходная личность должна обладать способностью к порождению множественной личности внутри самой себя. Здесь мы опять перекликаемся с представлениями французского персонализма, где человеческое общение – это «близость близкого», способность «встать на место другого», «заменить другого» [Вдовина, 1981]. 6. Итак, что же есть личность?
С чем же отождествлять личность, если принять во внимание все сказанное выше? Если с эго, задаваемым функцией представлений р(μ), –тогда она, в силу своей способности к изменчивости, конечно, иллюзорна, что соответствует представлению Древнего Востока. Может быть, ее надо отожествлять с метаэго? Но мы мало что знаем о нем. Оно трудно поддается наблюдению в спокойных условиях жизни. В старой России была поговорка: «Чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд[22] соли». Здесь использовалась метаболическая мера времени: за то время, когда будет съеден пуд соли, уже почти неизбежно произойдет хотя бы одно трагическое событие, через которое откроется личность в своей сокровенности. Может быть, Древний Восток не фиксировал свое внимание на метаэго именно потому, что там жизнь отличалась сравнительной успокоенностью[23]. Запад все время шел на поиск трагичного в приключениях – вспомним здесь хотя бы средневековый термин knight-errant (странствующий рыцарь). Может быть, и сейчас мы этому следуем, не только индивидуально, но и в масштабах стран? В том, что мы называем метаэго, проявляется не просто свойство человека как такового, а нечто присущее ему в его взаимодействии с напряженностью жизни. Но жизнь должна порождать не только напряженность, но и преодолевающие ее идеалы, иначе трагизм просто сломит человека. И здесь, обращаясь к совсем недавнему прошлому, мы можем вспомнить, скажем, такие героические имена, как Максимилиан Кольбе и Мать Мария[24]. Осмысливая метаэго, мы хотим придать ему вселенский характер. С одной стороны, это что-то очень личное – персональное, с другой – это открытость вселенскому. Метаэго – это не предметность личности, а ее способность быть открытой запредельному. Мы уже говорили о том, что личность есть текст. Текст совершенно особый, способный с помощью своего метаэго изменять систему своих смыслов. Иными словами, личность – это текст, способный интерпретировать самого себя в соответствии с новой ситуацией у. Итак, личность – это прежде всего интерпретирующий себя самого текст. Этот текст еще и способен к самообогащению, к тому, чтобы стать многомерным. Этот текст способен к агрегированию себя в единое целое с другими текстами. Этот текст нетривиально связан со своим носителем – телом, а в случае гиперличности – со многими телами. Так личность выступает перед нами в своей многогранности и ускользает от нас за этими гранями. Мы не можем сами схватить себя в своей целостности и готовы опять, но теперь уже с других, более широких позиций, говорить об иллюзорности личности. Она иллюзорна не только так, как иллюзорен всякий поддающийся множеству интерпретаций текст. Она более иллюзорна, чем всякий текст, так как это есть «самочитаемый» текст – текст, способный изменять себя. Эта способность быть иллюзорной и есть та самая главная, не схватываемая нами, особенность личности. В этом, как нам кажется, прежде всего ее сущность. Иллюзорность личности – в ее спонтанности. Личность – это спонтанность. Спонтанность – это открытость вселенской потенциальности. Способность попадать в резонанс с ней. В европейской философской традиции о спонтанности (иногда называя ее внутренним самодвижением) говорили многие: Августин, Декарт, Лейбниц, Кант, Гегель, Ницше, Сартр[25]. И все же идее спонтанности не повезло – она не обрела статус философской категории, т. е. статус некоей философской фундаментальности, подлежащей особому рассмотрению. Иначе все сложилось на Дальнем Востоке. В Древнем Китае – в философии Дао представление о спонтанности оказалось основополагающим[26]. Парадоксально то, что с Востока же – на сей раз из буддизма – к нам пришло и представление об иллюзорности личности, задающееся, как мы теперь хорошо понимаем, именно спонтанностью ее сущности. Фильтр перестройки смыслов – это, конечно, еще не сама спонтанность, а только ее проявление. Ее знак. Но то, что стоит за ним, остается все же не разгаданной тайной. На рис. 2 мы даем, правда, весьма схематичное, изображение одномерного эго человека и там же показываем возможный фильтр перестройки. Здесь эго дается в его динамичности – готовности перестроиться в акте мультипликативного взаимодействия старого с новым. На рис. 3 дано столь же схематическое изображение двухмерного эго в его статическом состоянии. Дальнейшая графическая иллюстрация становится практически невозможной. Заканчивая этот раздел работы, мы не без некоторого огорчения осознаем: нам удалось что-то сказать только о проявлении спонтанности в творческом – созидательном акте. Но как обосновать возможность возникновения смыслов разрушительной силы? Сама постановка такого вопроса, однако, представляется сомнительной. Оставаясь в рамках развиваемой нами модели, мы не можем предложить четкого критерия для дихотомического разграничения смыслов. И из соображений самого общего характера, не опирающихся на какую-либо концептуализацию, ясно, что всей силой своего воображения мы не можем представить себе возможность существования единого критерия, приемлемого для всех людей. И Христос говорил:
И это естественно для культуры, направленной на поиски смыслов. Мир смыслов, мы повторяем это еще раз, должен быть погружен в трагизм. Правда, сейчас мы, люди всего мира, достигли такого состояния, когда разрушающее начало может стать безнадежно сокрушительным. Но это уже другая тема. Кажется, во всех мифологиях прошлого мы находим демонов, порождающих злое начало жизни. Нам известна одна современная попытка построить мифологию зла[27]. Но на этом вопросе мы останавливаться не будем. Представляется философски более содержательным взгляд на природу человека, отраженный в одном из гностических текстов. Для гностиков было характерно говорить о душе как о женском начале, поскольку она рассматривалась как вместилище, оплодотворяемое различными силами. В тексте Экзегеза Души (Толкование Души[28] мы читаем [Robinson, 1978]:
Мы видим здесь мрачное и, пожалуй, даже несколько циничное[29] описание природы души, соответствующее негативному отношению гностиков к жизни на Земле. Тексты гностиков обычно нарочито неясны – они по самому своему замыслу должны нести скрытый смысл, нуждающийся в творческой интерпретации. Однако сказанное о душе нам представляется достаточно прозрачным: падшая душа – восприемница смыслов; они приходят в нее извне – как обман, как соблазн, как насилие, хотя она сама ищет их; обновляясь, душа очищается от смыслов, получает крещение и возвращается к своему изначальному состоянию. Итак, мы видим, что и у истоков христианства существовало сопротивление как смыслам, так и спонтанности их появления. Смыслы неразрывно связаны со спонтанностью. Спонтанности мы должны приписать статус философской категории. И, поступив так, мы вынуждены признать, что это одна из самых трудных для понимания категорий. Она трудна тем, что должна проявлять себя вне причинно-следственных связей; тем, что она находится вне привычных временных представлений, так как в спонтанности решения всегда есть забегание вперед, смешивание будущего с прошлым; и, наконец, тем, что спонтанность – трансличностное начало, несущее в себе нечто, непонятным образом связующее личностное и вселенское и тем самым задающее единство Мира в его творческом раскрытии. И в то же время внутренне – в глубине себя – мы чувствуем присутствие этого начала. Издревле люди хотели преодолеть спонтанность, свести ее к чему-то более простому. Проще всего было свести ее к воле Творца. Но спонтанность не сдавалась, и тогда понадобился образ столь же всемогущего Дьявола. Потом была попытка заковать спонтанность в рамки Закона природы. И этого оказалось недостаточно. Тогда на сцене появилась Случайность. Но, чтобы хоть как-то понять природу случайного, западной мысли понадобилось более двух тысяч лет (см. [Nalimov, 1981]). Случайность – это все же не спонтанность. Она объясняет случайное поведение элементарного события, т. е. чего-то очень простого, механического по своей природе. Спонтанность относится к изменению текстов, к изменению смыслов в их взаимосвязанности, т. е. к имеющему смысл изменению смыслов. И разве готовы мы априори к тому, чтобы признать возможность появления смыслов на базе нового, но по-прежнему механистического понимания случайности, даже если оно будет связано с представлением о термодинамике неравновесных систем? Мы до сих пор не понимаем природу спонтанности, а следовательно, и не понимаем смысловую природу человека. И философия Дао нам все же не раскрыла суть спонтанности. Она сделала другое – создала гимн спонтанности. Западная мысль серьезно подошла к необходимости понимания спонтанности, наверное, только к началу нашего века – Ницше, Сартр и, в другой форме, Уайтхед. Пытаясь описать через спонтанность природу человека, или природу биологического эволюционизма [Nalimov, 1985], мы на самом деле хотели прежде всего понять природу самой спонтанности. Заканчивая этот параграф, мы еще раз повторим:
7. Личность в медитации
Все изложенное выше было раскрытием дедуктивно построенной модели. Естественным дополнением к сказанному должно быть непосредственное, дорефлективное представление о личности. Ниже мы приводим четыре медитационных протокола[30]. Медитация для нас – это освобождение сознания от семантической скованности, это раскрепощение той самой спонтанности, о которой мы так много говорили ранее. Медитации проводились так, как описано в нашей книге [Nalimov, 1982]. Основным понятием, объединяющим эту серию экспериментов, было слово Личность. В каждом медитационном сеансе использовался тот или иной синоним этого слова. Никаких комментариев к протоколам здесь мы давать не будем. Пусть они останутся такими, какие есть, – поэтическими дополнениями к логически развиваемой модели. Нам хочется верить, что мысль, строящая модель, каким-то малопонятным образом опиралась на медитативные фантазии. Помню, что еще в детстве учительница немецкого языка учила меня фантазии, рассказывая сказки, как у Гофмана. ПРОТОКОЛЫ
Ключевое слово: Зерно. Корни. Корни, как лабиринт души. Корни – раскрытие зерна. На солнце расцветает желтый, нежный, светящийся тюльпан. Тюльпан, как маленькое желтое солнце. Тюльпан, как чаша, наполненная солнечным светом. Как легко, спокойно быть тюльпаном. Быть открытым солнцу хотя бы один день. Быть просто тюльпаном и ничего не хотеть, ничего не бояться. Светиться светом солнца. Вбирать в себя его свет и упаковывать в новое зерно. И больше ничего.
Ключевое понятие: Кто я? В коричневом, слабо освещенном пространстве я увидел себя как многоцветный сгусток, как галактику в небе. Войти в него не просто. Это замкнутый, плотный изолированный сгусток света. Но вот он становится податливым – расширяется, размывается. И я вхожу в него. В нем разные пространства. Пространства разного цвета и разной плотности. Вот легкое сплошное пространство голубого цвета. Но где-то оно пересекается плотной дугой красного цвета. Эту дугу пересекает другая – зеленого цвета. Это уже не такая плотная дуга – она иногда распадается на отдельные брызги. Некоторые разноцветные дуги сцеплены, как звенья цепи. А вдали опять пустое голубое пространство, и где-то в высоте парят серебристо-белые светящиеся крылья. Я понял: смерть – это разрушение этой сгустковой галактики. Это–освобождение ангела белых крыльев.
Ключевое понятие: Поэтическое Я. В небе появилась большая, громадная черная птица. Ее перья были чуть-чуть металлическими и издавали трубные звуки, как орган. Размах ее крыльев занял все небо. Я звал ее – она стала уменьшаться и пошла ко мне. Вот она стала маленькой зеленой птичкой и села на красную розу в саду. Я звал ее – она уменьшилась почти до точки и вошла в меня. И в себе я ощутил острый шип, наверное, от той розы, на которой сидела птица. Я надел плащ и вышел из сада в горы. Шел дождь, скользили камни под ногами, и рвали плащ шипы горных лиан. И я шел и шел, а шипы все рвали плащ, и что-то зрело во мне. И возникли во мне пространства – абстрактные, причудливо искривленные, пустые. Потом и это ушло, и осталось ничто.
Ключевое слово: Логос. Мир был в дремотной тишине. Как тени стояли деревья. Мир был в заколдованности тишины. Прозвучал колокол. На небе вспыхнула голубая звезда. Вспыхнула и упала на Землю. Зазвенела и ожила Земля. В горах вспыхнул голубой звездой купол храма. Его двери распахнулись. Вышли рыцари. Их латы были из прозрачного светящегося шелка. Светящегося светом голубой звезды. Перед каждым рыцарем ковром развернулись дорожки. Рыцари повернулись, поклонились храму и пошли по своим дорогам. Понесли символы в Мир. Опять прозвучал колокол. И купол храма взошел на небо, обернувшись голубой звездой Востока. Рыцари пошли, чтобы умирать и вновь приходить, меняя свои плащи и латы. Так прозвучала голубая сказка о Логосе. Теперь несколько слов о постмедитационной картине художника А. Дьячкова (см. илл. 2). Перед нами высеченный из скалы рыцарский замок, затерявшийся где-то в палестинских пустынях. Занесенная песком дорога на подступах к замку – это путь к сознанию, окаменевшему в своем стремлении устоять, сохранить застывшие смыслы, устремленные вверх, как в готике. Там – внутри замка – должны быть коридоры, переходы, подвалы, подземелья сознания. Здесь вспоминается Тереза Авильская, запечатлевшая свой мистический опыт в труде Внутренний замок. И «замок» этот можно сравнить с нашей попыткой задать эго человека двухмерной функцией распределения. Правда, не гладкой, имеющей четкую систему предпочтений. А горящий обруч – это спонтанность, пытающаяся прорваться сквозь окаменелость[31]. Это та же спонтанность, которая в одном из протоколов оказалась запечатленной образом крыльев. 8. Как возможна трансценденция личности?
Слово трансценденция приобрело сейчас серьезное звучание. Это путь преображения личности – выход за пределы ее жесткой смысловой капсулизации. Это путь поиска утраченной связи личностного начала с окружающей нас природой и вселенским началом. Это и путь терапии – лечение человека, подавленного непреодолимой броней его капсулы. Это путь преодоления перенапряженности в самой культуре – ее погруженности в парадигматическую капсулу, неспособную объединить под своим семантическим зонтом все многообразие жестко капсулизированных личностей. Отчужденность, вызванная непомещаемостью в одном семантическом убежище, порождает уже апокалиптически звучащую тревогу. Правда, стремление к трансценденции – радикальному выходу из той ограниченности сознания, которая в какой-то момент исторического развития может стать нестерпимой, угрожающей самому бытию человека, наверное, всегда было присуще человеку. Разными путями решал человек эту проблему. Именно на этом пути рождались новые религии или начинались брожения в старых. Вспомним здесь и о возникновении самого христианства, а позднее и мусульманства, вспомним и о социально-религиозных войнах, веками терзавших Европу, и о множестве эзотерических движений, теперь часто объединяемых под общим термином масонство; наконец, вспомним и о былой популярности Каббалы и об алхимии, оказавшейся предтечей современной науки. Это был нескончаемый поиск путей трансценденции – личной и социальной. Наша модель, несколько схематизируя, позволяет посмотреть с единых позиций на все многообразие путей трансценденции. (1) Овладение воображением, наверное, было первым актом трансценденции. Человек стал таким, какой он есть, с того момента, когда у него появилось воображение[32]. Воображение – это путь к творчеству, путь к раскрытию смыслов. Через воображение человеку открылось фундаментальное: видение пространства (илл. 1, 3), понимание числа, овладение логикой и языком. Процесс раскрытия фундаментального в какой-то степени, кажется, продолжается и в наши дни. Почти на наших глазах человек все же понял что-то о природе случайного и даже что-то совсем труднопостижимое – о пространстве и времени. Сейчас мы, по-видимому, готовимся к тому, чтобы понять природу спонтанности. Еще гностики удивительным образом осознали, что смыслы – какие-то совсем глубокие смыслы – могут быть свернуты в тексты, а раскрытие их помогает человеку найти путь к выходу за пределы самого себя. Вот какими словами начинается апокрифическое Евангелие от Фомы [Трофимова, 1979]:
Но здесь обнаруживается один из парадоксов наших дней. Наука, в дни ее всемогущества, начинает выступать скорее всего как средство овладения миром [Nalimov, 1981], а не как средство раскрытия фундаментального. Самый большой упрек нашей культуре заключается в том, что ее наука оказалась не в состоянии впитать в себя то запредельное, с которым соприкоснулась. В лице экзистенциализма философия даже восстала против науки. Узкая специализация науки привела к тому, что она сама стала отчуждаться от философского осмысливания открывшегося. Ученый не хочет, а пожалуй, уже и не может знать того, что делается у соседа. Многие, особенно математики, боясь утерять строгость и чистоту своей дисциплины, не допускают широких мировоззренческих обобщений. На долю мирян (людей, непосредственно не посвященных в науку) остаются только популяризаторские отходы от науки, которые уже невозможно творчески осмысливать (всякий, кто попытается это сделать, будет назван дилетантом). Не следует ли отсюда, что вместе с ростом научного понимания мира вместо ожидаемого обогащения начинает расти и отчуждение общества от творческого процесса? Не всегда было так. Обратимся, скажем, к Средним векам – они сравнительно недалеко от нас. Серьезная мысль там также, конечно, была элитарной. Но к восприятию осмысленного приглашались все. Найденное миропонимание находило свое отображение в удивительных храмах. Храмы – это не популяризация, а само мировоззрение, воплощенное в камне. В храмах читались проповеди. Читал их и Мейстер Экхарт. Он произносил проповеди не популяризируя, а излагая собственное понимание. В строительстве храмов участвовали многие – все они были активно вовлечены в творческое раскрытие смыслов. (2) Творческая устремленность, направленная на новое раскрытие смыслов, делает более гибкой и податливой смысловую структуру самой личности. Медитация оказывается приемом, усиливающим открытость личности. Можно говорить и о спонтанном выходе в медитативное состояние. А. Маслоу[33] использует здесь такие термины, как самоактуализация и пиковый опыт. Обрабатывая имевшиеся у него многочисленные свидетельства, он отмечает [Maslow, 1968]:
На более высоких уровнях человеческой зрелости многие дихотомии, конфликты и полярности смыкаются, преодолеваются или разрешаются. Самоактуализирующиеся люди являются одновременно эгоистичными и не эгоистичными, дионисийскими и аполлоническими, индивидуально и социально проявленными, рациональными и иррациональными, слившимися с другими и обособленными от них и т. д. (с. 91). Из нашей модели следует, что широта личности – ее открытость смыслам, противостоящим друг другу, – осуществляется через образование многомерной личности. Многогранность личности – это ее многомерность. Именно в многомерности может осуществляться согласованная связанность двух (или нескольких) составляющих личности без стирания их индивидуальностей. Личность оказывается способной к трансценденции – выходу за границы, без саморазрушения. Раскрытие личности через наращивание многомерности – это не разрушение исходного эго, а его нескончаемое дополнение. Облик личности высокой многомерности может оказаться столь же обаятельным, сколь и невыносимым по своей широте для многих других. Не рисует ли нам евангельское предание Христа именно такой – безбрежно многомерной – личностью, ибо иначе откуда его способность к всепрощению? Как тогда могла бы прозвучать Нагорная проповедь? И не это ли вызвало раздражение, переходящеее в агрессию? Таким образом, та трансценденция, о которой говорил Маслоу, осуществляется, в нашей системе представлений, через образование семантически многомерной личности. (3) В другой его книге мы находим такое примечательное высказывание [Maslow, 1981]:
Потребность в сообществе, по нашим представлениям, реализуется в создании гиперличности – через корреляционную связанность личностей, имеющих разную телесную воплощенность. Сама западная культура – начало счета ее времени – восходит к Христу, возвестившему, что общинность должна строиться на любви, простирающейся и на «врагов ваших». Сейчас – в постхристианскую эру – мы опять ищем пути для того, чтобы удовлетворить, говоря словами Маслоу, базовую потребность людей. Но здесь есть для нас предостережение. Мы знаем, как в недавнем прошлом мощная тоталитарная по сути общинность была создана во имя зла. Да, такое или похожее было не раз в истории человечества. Но было и не только так. Создание гиперличности оказывается оружием обоюдоострым. (4) В нашей книге [Nalimov, 1982] отдельная глава (гл. 16) посвящена проблеме реинкарнации. Сейчас этой проблеме мы можем дать еще одну интерпретацию. Может быть, представление о реинкарнации – древнейшее и, кажется, в свое время почти всеобщее – исходит из той потребности в общинности, о которой писал Маслоу. Здесь перед нами стремление к общинности, преодолевающее границы времени. В плане психологическом мы ищем себе двойниковые пары в прошлом, стремясь образовать надвременную гиперличность. Мы расширяем свою личность, проникая в культуры прошлого, вживаемся в них, становимся гражданами вселенной – вневременной общинности. Ведь это, в конце концов, все равно – ощущает ли человек, что он был когда-то уже кем-то в прошлом, или он, обращая время вспять, создает вневременную гиперличность сейчас. В устремленности к трансценденции своей личности мы можем распорядиться временем и иначе, чем это положено нам в нашей парадигме. Отметим, что христианское понимание трансценденции (особенно в католичестве) заключено в переживании Христа, в сближении с Ним через обращенную к Нему любовь – в образовании общей с Ним Гиперличности. (5) Представление о трансценденции предполагает не только обращение к смыслам, но и восстание против них. Сглаживание функции распределения р(μ) – превращение ее в неусеченное прямоугольное распределение (об этом мы уже говорили выше в гл. II, 6 Б). Это путь выхода в Нирвану. Здесь мы обращаемся к одному из основных понятий философии буддизма и джайнизма. Буквальный перевод термина с санскрита означает «угасание». Это путь угасания привязанностей. Иными словами, это полное освобождение от смысловой капсулизации. Выход в Ничто, в Немыслимое, в Непостижимое. Это – вечность, покой, освобождение от страдания, убежище. В нашей системе представлений – это выход в исходный, нераспакованный семантический континуум. Выход в запредельное состояние. Отметим, что здесь речь идет не просто о философском учении, но и о религиозной практике, породившей свою собственную культурную традицию со многими ее разветвлениями. И если медитация на низших своих стадиях раскрывает воображение, раскрепощает внутренний опыт, то на более высоких стадиях возникает ощущение безмолвия, безбрежности Великого Молчания [Brown, Engler, 1980[34]. На высшей стадии достигается выход из всех конфликтов, и всякого страдания. Это полное освобождение от смыслов. Возвращение их в исходное – нераспакованное состояние. Это действительно высшая форма интеграции с вселенским началом – интеграция без каких-либо предпочтений. Здесь глубокое понимание того, что всякая система предпочтений преходяща, конфликтна, иллюзорна. Но здесь и отказ от признания творчества жизненным началом мира. С этим, по существу буддийским, идеалом смыкается и устремленность некоторых мыслителей трансперсональной психологии. Но опасность потери активного творческого начала в жизни не может не вызывать возражения. В этом отношении весьма примечательной является статья Шнайдера [Schneider, 1987]. Ее пафос – пафос автора, отождествляющего себя с кентавром, заключается в следующих словах:
Примечательно то, что статья Шнайдера опубликована в Journal of Humanistic Psychology, близком к The Journal of Transpersonal Psychology. (6) Излечение психически больного – это трансценденция остро страдающей личности. Это творческий процесс, направленный на укрепление и обновление смыслов. Вот что по этому поводу пишет американский психиатр Франк [Frank, 1987]:
(7) Да, со смыслами не все просто. С одной стороны, они делают нашу жизнь содержательной, открывают для нас возможность действовать в этом Мире, связывают нас со вселенским началом. Смыслы делают нас активными – то есть психически здоровыми. С другой стороны, смыслы могут нас угнетать, подавлять, догматизировать. И чтобы этого не было, они должны все время обновляться в соответствии с меняющейся ситуацией. Трансценденция личности в нашем понимании – это не преодоление смыслов, а борьба человека за обретение способности их непрестанного обновления, за открытость глубинам самого себя, а через себя – и космическому началу жизни, раскрепощение своего метаэго. Сейчас, в век угрожающего и непрестанно нарастающего господства техники, мы стоим перед двоякой угрозой – потери социальной активности или, наоборот,– усиления нетерпимости и агрессии[35]. Пожалуй, сейчас мы скорее всего будем относиться с недоверием к герою, если таковой вдруг объявится. И здесь мне хочется сказать, что нетерпимость – это все же удел одномерной личности или личности очень малой размерности. По-видимому, можно думать, что в пределе многомерная личность, так же, как и буддийски ориентированная личность, сглаживающая свою привязанность к смыслам, придет к одному и тому же состоянию сознания. Иными словами – несмотря на разные пути, циклы замкнутся в одной и той же точке. А что потом? Начнутся другие циклы существования на базе внутренней обогащенности? Кто и что об этом знает? Здесь мы опять соприкасаемся с запредельной реальностью. * * *Пути трансценденции неисповедимы. Мы бродим по ним, чаще всего не осознавая, куда и зачем мы идем. И, как на всяком пути, здесь есть ловушки. Что ищем мы – себя, свою личность, все время ускользающую от нас в ее динамичности? И не находим ли мы себя, потеряв самих себя? И, может быть, теперь нам становится понятным смысл сказанного:
9. О возможности другого подхода к оценке личностной множественности
Заканчивая эту главу, отметим, что о многозначности личности можно говорить не только в плане семантическом, как мы делали выше, но и в плане чисто функциональном. Вот перед нами интересная книга Гарднера [Gardner, 1983], посвященная множественности интеллекта. Автор начинает ее с критических замечаний в адрес IQ-теста (intelligence quotient). Оценка умственных способностей здесь редуцируется к одному числу. Может ли такая редукция, говорит он, быть достаточной, если речь пойдет не только об оценке школьных успехов, но и о предсказании всей последующей жизни? Автор вводит следующие составляющие умственной деятельности: лингвистическую, музыкальную, логико-математическую, пространственную, телесно-кинестетическую (использование тела как формы проявления умственной деятельности) и, наконец, персональную, находящую свое выражение как в индивидуальной локализации самого себя, так и в межперсональных взаимодействиях. Проявление каждой из указанных выше составляющих иллюстрируется множеством примеров. Сознание, конечно, возможно рассматривать и просто как генератор некоей ментальной энергии. Именно этот аспект деятельности можно пытаться описывать, опираясь на квантово-механические представления (см., например, уже упоминавшуюся выше работу [Jahn, Dunne, 1986]). Отдавая приоритет смысловой структуре личности, мы оставили в стороне рассмотрение ее чисто функциональных, т. е. в каком-то смысле технических способностей к проявлению того, что задается все же смысловой архитектоникой. Хотя, конечно, портрет личности остается существенно неполным, если не учитывать ее способности к функционированию, т. е. к проявлению того, что в ней потенциально заложено. [1] Хочется здесь отметить, что впечатление о несоразмерно высоком многообразии теории человека создается даже при весьма неполном освещении темы. Недавно вышла книга Буржуазная философская антропология XX века [1986]. Как мало у нас пересечений с этой книгой, которая, конечно, также остается неполной — в нее не включены ни философские высказывания западных нейрофизиологов о природе сознания, ни построения философски ориентированных мыслителей, объединенных трансперсональным направлением психологии. Но вряд ли была бы удобочитаемой монография, претендующая на всеохватывающую полноту. Может быть, назрело время для создания Энциклопедии человека? С каким интересом читается подборка высказываний о человеке, составленная Д. Хофстадтером и Д. Деннетом [Hofstadter, Dennett, 1981]. Она раскрывает широкий (но опять-таки далеко не полный) спектр суждений, включающий высказывания и таких писателей, как Борхес и Лем, и научные спекуляции, относящиеся к пониманию личности, природы мозга, искусственного интеллекта. Весьма серьезной представляется также не освещенная нами книга Дж. Марголиса [Марголис, 1986], развивающая концепцию эмерджентистского материализма. Не успели мы осветить и только что вышедшую статью [Велихов, Зинченко, Лекторский, 1988], где делается попытка раскрыть перспективы комплексного изучения человека с опорой на работы советских авторов: Л.С. Выготского, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьева, М.К.Мамардашвили, С.Л.Рубинштейна, Г.Г.Шпета. [2] Несколько подробнее этот вопрос мы уже рассматривали в книге [Nalimov, 1982, с. 12–13]. [3] Здесь мы в значительной степени опираемся на представление Дж.А.Уилера о том, что «геометрия на малых расстояниях флюктуирует в высокой степени». (Подробнее см. об этом в нашей книге [Nalimov, 1985, с. 86–87].) [4] В приведенном им каталоге измененных состояний сознания, связанных с полной изоляцией, последним из перечисляемых является такой пункт: 8. Человек может стать ничем, нет больше его я, нет внешнего мира, нет знания, нет памяти. Человек оказывается сведенным на нет, ничего не остается, в том числе и собственного я. Осведомленность и сознание исчезают (с. 175). [5] О персонализме в словаре Леграна [Legrand, 1983] читаем:
[6] Когда я пишу эти строки, с глубоким почтением вспоминаю своего школьного учителя литературы Федора Федоровича Берешкова — философа, профессионального знатока Достоевского. Это он в те замечательные (хотя и трагически контрастные) двадцатые годы отводил изучению Достоевского целых полгода (вопреки всем официальным программам). И это он тогда нам — еще мало что понимавшим молодым людям — прочитал на уроке этот рассказ. А потом последовало мое первое философски ориентированное сочинение — оно было посвящено Достоевскому. Преподаватель посчитал это сочинение своим большим достижением и прочитал его во всех параллельных классах школы. Тогда это было очень сильным поощрением, поддержавшим мою философскую устремленность. [7] Смешной человек говорит: «Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон?» (С. 118.) [8] Конечно, на практике это не реализовалось совсем гладко — на смыслах все же покоится и само учение буддизма, и смыслами оно расщепилось на множество потоков. [9] К этой теме мы еще вернемся в следующей главе. [10] Ранее в нашей работе [Nalimov, 1982] мы подробно останавливались на представлении Хайдеггера о том, что три модуса времени — прошлое, настоящее и будущее, — взаимно проникая друг в друга, составляют единый феномен. [11] В психологии понятие установка ввел впервые немецкий ученый Л.Ланге в 1888 г. Много раньше Г.В. Лейбниц ввел близкое понятие апперцепция — с его помощью характеризуется зависимость восприятия от прошлого опыта личности и от ситуации. В нашей стране особое значение понятию установка придал грузинский философ и психолог Д.Н. Узнадзе. У него продуктом установки была интенциональная направленность сознания на предмет в его восприятии. Так возникла грузинская школа теории установки. [12] Напомним что в гештальт-философии Перлз также говорит о личности как о системе установок, регулирующих межличностные отношения (см. гл. I, 7). [13] Хотя сам многомерный континуум (как это следует из хорошо известной в теории множеств Rn-теоремы) равномощен одномерному. [14] Напомним здесь некоторые сведения из корреляционного анализа. Смысл понятия корреляция хорошо раскрывается через рассмотрение поведения линий регрессии, связывающих две случайные величины μ1 и μ2. На плоскости, задаваемой осями μ1 и μ2, строятся две линии регрессии: регрессия μ1 по μ2 и регрессия μ2 no μ1, что соответствует тому, что в первом случае при оценке параметров линии регрессии минимизируется сумма квадратов отклонений, взятых параллельно оси μ1, во втором — параллельно оси μ2. Две линии регрессии пересекаются в точке, соответствующей математическим ожиданиям двух случайных величин. При изменении абсолютной величины коэффициента корреляции ρ{μ1,μ2} от 0 до 1 угол между линиями регрессии изменяется от 90° до 0° . В первом случае линии регрессии оказываются перпендикулярными друг другу, во втором — совпадающими. Таким образом, абсолютная величина коэффициента корреляции служит мерой угла между двумя линиями регрессии, а следовательно, и мерой жесткости линейной связи между двумя переменными. Коэффициент корреляции по абсолютной величине не может превосходить единицу, т.е. – l ≤ ρ ≤ l. Знак коэффициента корреляции всегда совпадает со знаком угловых коэффициентов уравнений регрессии. Отрицательное значение коэффициента корреляции свидетельствует о том, что наклоны обеих линий регрессии отрицательны. [15] Сейчас ведется тщательное наблюдение за этой формой дуального состояния сознания. С 1981 г. издается небольшой журнал Lucidity Letters (редактор Dr. J. Gackenbach, Department of Psychology University of Northern Iowa), проводятся конференции. [16] Мы на самом деле не знаем, в какой степени описанное Кастанедой отражает древнюю мексиканскую традицию. Нам представляется, что скорее всего здесь речь идет о некотором эзотерическом миропонимании, спроецированном на мексиканский фон. Это новое видение мира развивается столь последовательно и естественно, что обретает статус возможной реальности. [17] Номер журнала, в котором опубликована статья Клафта, почти целиком посвящен публикациям, относящимся к психиатрическим аспектам множественной персональности. Этой проблеме также полностью посвящен отдельный номер The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (Special Monograph Issue), 1984, XXXII, № 2, р. 63–253. [18] К числу возникающих здесь вопросов относится вопрос о том, как множественная персональность соотносится с гипнозом. Последний используется при диагностике: гипнолог может вступать в диалог с каждой из самостоятельных компонент личности. Гипноз также используется в терапии (оказывается, что пациенты с множественной личностью обладают высокой гипнабельностью). Имеется также высказывание о том, что множественная личность создается тем, что пациент неосознанно злоупотребляет самогипнозом. [19] Лютер перенес духовную ответственность с Церкви на личность — отсюда выросла возможность для той расщепленности в системе моральных ценностей личности, без которой вряд ли было бы возможным развитие капитализма при одновременном сохранении христианского миропонимания. [20] То есть к топологическим пространствам, точками которых являются функции или числовые последовательности. [21] Здесь можно упомянуть книгу Райха [Reich, 1970], большая цитата из которой приведена в нашей книге [Налимов, 1979]. [22] Старая мера веса, равная примерно 16 кг. [23] Именно отсутствие смыслового противостояния лишало Древний Восток динамичности. Словами Ясперса [Jaspers, 1949] эту мысль можно выразить так: Издревле принято считать, будто Китай и Индия, в отличие от Запада, не имели подлинной истории. Ибо история означает движение, изменение сущности, появление нового (с. 78). [24] Жребий смерти миновал их в нацистских застенках, но они добровольно по24ли умирать за других. Гражданское имя Матери Марии — Елизавета Пиленко (в замужестве Кузьмина-Караваева). (О. Максимилиан Кольбе – польский католический священник, канонизированный в прошлом веке. Прим. ред.) [25] Некоторые относящиеся сюда высказывания упомянутых философов читатель найдет во множестве приведенных выше цитат. Мы должны здесь еще вспомнить и о том, что в диалектическом материализме спонтанность развития рассматривается как принцип самодвижения в развитии и разрешении противоречий. [26] Здесь нам хочется обратить внимание на книгу А. Грэма (Graham, 1985], посвященную философии спонтанности. Автор — в прошлом профессор классической синологии – рассматривает соотношение между разумностью и спонтанностью, давая новое освещение таким темам, как альтруизм, эгоизм, наслаждение, творчество, священное, наука–поэзия, мысль Востока и Запада. [27] Книга Д. Андреева Роза мира, написанная после его выхода из сталинской тюрьмы. (Впервые опубликована в 1993 г. – Прим. ред.) [28] Анонимный трактат из библиотеки Наг Хаммади. Он, вероятно, был написан на греческом языке около 200 г., но сохранился только коптский его перевод. (Из введения переводчика W.С. Robinson Jr.). Полный перевод этого трактата содержится в книге [Трофимова, 1979]. [29] Правда, в прежние времена, когда храмовая проституция существовала как религиозный обряд, сказанное о душе, возможно, и не звучало так унизительно, как сейчас. [30] Это самоотчеты регулярных участников медитировавшей группы. (Прим. ред.) [31] «Зáмок» А. Дьячкова перекликается с прекрасной картиной испанского художника Хенаро Переса Вильямиль (1807–1854), изображающей замок Гаусин, одно из последних владений древнего мусульманского королевства Гранады (картинная галерея Прадо в Мадриде). [32] Как человек обрел воображение? Почему этот путь развития пройден за сравнительно короткий промежуток времени? Достаточно обоснованного ответа на эти вопросы нет. Но есть все же одна любопытная, хотя и чисто умозрительная гипотеза, описанная в статье Маккенны [МсКеnnа, 1988]. Согласно этой гипотезе, употребление нашими предками некоторых видов грибов и других психоделических растений раскрыло спонтанность воображения. Вот как это описывает автор: Галлюциногенные растения могли оказаться катализаторами всего того, что отличает нас от приматов, кроме, возможно, утраты волосатости. Все ментальные функции, которые мы ассоциируем с человеческими свойствами, включая воспоминания, проективную фантазию, язык, присвоение имен, магические заклинания, танцы и религиозное чувство, могли возникнуть в результате взаимодействия с галлюциногенными растениями (с. 52—53). Примечательно в этой гипотезе, что толчком к духовному развитию могло оказаться то, что запечатлено в мире физическом. В природе было что-то, хотя и очень опасное, заготовлено для первого эволюционного толчка. Это можно рассматривать как проявление принципа антропности, о котором мы будем говорить далее (гл. IV, 2). [33] Напомним здесь, что Маслоу стоял у истоков трансперсонального движения. [34] В работе Брауна и Энглера используется хорошо известный в психологии тест Роршаха для сравнительной оценки пяти групп (длительно практиковавших медитацию), соответствующих пяти различным медитационным уровням: начальному уровню, состоянию озарения, продвинутому озарению, самадхи и высшему просветлению. [35] Здесь уместно обратить внимание на высказывания моего отца — этнографа финно-угорских народностей. Еще в начале 1920-х годов он писал [Налимов, 1923]: Современные революции до некоторой степени представляют протест против труда, лишенного радости творчества (с. 20). Назад в раздел |
||||
| © Ж.А. Налимова-Дрогалина, В.Я. Голованов, А.Г. Бурлука, ООО "БОС" | |||||




