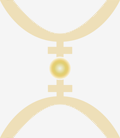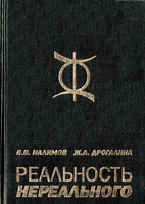Глава из книги
Глава 16
Вера в реинкарнацию как проекция представлений о сопричастности человека неразделенной целостности мира
Мы только знак, но невнятен смысл...
Ф.Гёрдерлин. Мнемозина
Человек в своей индивидуальности выступает перед нами как Знак, но какова семантика, стоящая за этим знаком? Если за знаком – Словом, не имеющим собственного Времени, мы склонны видеть более или менее статичные семантические поля, континуальные по своей природе и сопричастные всей Семантической Вселенной, то за знаком – Человеком, обладающим собственным Временем, представляется естественным видеть все тот же семантический континуум, так же не разрываемый Временем. Смерть, как мы говорили выше (гл. 6), – это прекращение Делания, остановка собственного Времени, но не разрушение того семантического континуума, селективно выраженной манифестацией которого является человек в данной его реализации. Иными словами, смерть – это только прекращение данной, конкретной манифестации Семантической Вселенной. Но как возникают эти реализующиеся в индивидуальности человека манифестации Вселенной, связаны ли они в большой шкале Времени реинкарнационной цепью? Подобные вопросы извечно мучили человека.
Представление о реинкарнации – повторности рождений одной и той же личности – восходит к глубокой древности. Оно было присуще, по-видимому, всем великим религиям Мира, включая и раннее христианство. Сейчас нет сомнения в том, что это представление основывалось на внутреннем – мистическом – опыте. Мы соприкоснулись с ним сразу в наших первых коллективных медитациях, Гроф – в экспериментах с ЛСД; обо всем этом мы уже много говорили выше.
Наука в своем стремлении редуцировать все психическое к физическому отказывалась замечать все те явления повседневной жизни, для объяснения которых нужно было бы обращаться к представлениям о реинкарнации. Индивидуальность начинается с рождения тела и прекращается с его смертью – такова была установка, опровержение которой мы находим в работах Юнга. Юнгианская психология – это представление о непрерывности сознания, не разрываемой рождениями. Но стала ли юнгианская психология неотъемлемой частью официально принятой психологической науки?
Сейчас документально и в методологическом плане достаточно научно изучает отдельные выдающиеся реинкарнационные проявления американский психолог Стивенсон. Однако в плане парадигматическом его исследования опять-таки остаются вне существующей сейчас психологической науки, хотя и не отторгаются ею. Профессор Стивенсон – сотрудник отделения парапсихологии факультета психиатрии университета Вирджинии (США).
Выше (см. гл. 6) мы уже рассматривали один из примеров, заимствованный из работы Стивенсона. Не так давно вышел первый[1] том его интересного исследования [Stevenson, 1975], посвященный описанию десяти весьма примечательных своей экстраординарностью случаев реинкарнации в Индии.
Здесь мы ограничимся лишь тем, что рассмотрим некоторые, обычно остающиеся незамеченными реинкарнационные варианты нашей повседневности.
Прежде всего, следует обратиться к поэтам. Именно среди них мы находим тех, кто с особой остротой чувствует свою сопричастность культурам прошлого.
Упомянем в первую очередь Гёльдерлина, который всегда подчеркивал свою привязанность к эллинскому миру. Вот как начинается одно из его стихотворений:
Какою силой
Прикован к древним, блаженным
Берегам я так, что
Я люблю их больше, чем родину?
Словно в небесное
Рабство продан я,
Туда, где Аполлон шествовал
В облике царственном.
Гёльдерлин. Единственный,
первая редакция (1969 г.)
Гёте тоже был удивительно привержен эллинизму. Вспомним хотя бы вторую часть Фауста.
А когда мы читаем А. Блока, то за внешностью поэта-эстета мы видим рыцаря Средневековья с культом Прекрасной Дамы в цикле стихов «Незнакомка», отчасти в циклах «Фаина», «Снежная маска» и в песнях трувера Гаэтана («Роза и Крест»):
«Сердцу – закон непреложный», –
Так говорила она
И в слезах повторяла
«Путь твой грядущий – скитанье!
Что тебя ждет впереди?
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди!»
Грудь я крестом отметил
И в мир туманный пришел.
И в другом месте Гаэтан поет:
Всюду – беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди!
Ревет ураган,
Поет океан.
Кружится снег,
Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег!
Рыцарь-крестоносец... Таким он, к удивлению и негодованию многих своих друзей, принял революцию – увидев Христа «в белом венчике из роз» впереди «двенадцати». Они – его почитатели – не понимали подлинности его поэзии.
У Н.Гумилева, во многих его стихах, мы слышим удивительно острое ощущение далекого исторического прошлого. Вот два отрывка из его стихотворений (сборник Костер, 1918 г.):
Стоял на горе я, как будто народу
О чем-то хотел проповедовать я,
И видел прозрачную тихую воду,
Окрестные реши, леса и поля.
«О, Боже, – вскричал я в тревоге, – что если
Страна эта – истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»
И понял, что я заблудился навеки
В глухих переходах пространств и времен.
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.
(«Стокгольм»)
Когда же, наконец, восставши
От сна, я буду снова я –
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья?
(«Прапамять»)
И М.Волошин в своих стихах заново переживал прошлое, след в след проходя путями других странников:
Дух мой отчаливал в желтых закатах
На засмоленной рыбачьей ладье
С Павлом – от пристаней Антиохии,
Из Монсеррата – с Лойолою в Рим.
(«Четверть века, 1900-1925», 1927)
Обращенный в прошлое напряженным поиском Образа своей Лилит, он не мог не написать:
В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы
От гималайских ступеней
До древних пристаней Европы.
Она – забытый сон веков,
В ней несвершенные надежды.
(«Она», 1909)
Но так может писать лишь тот, кто «памятью насыщен, как земля».
В стихотворении, обращенном к М.Цветаевой:
Жажду сразу всех земных дорог,
Всех путей... И было все... так много!
(«Марине Цветаевой», 1910)
И еще две строчки:
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
(«Дом поэта», 1926)
И современные ему события он воспринимал не в личностном, а в их историческом звучании:
Мы видели безумья целых рас...
Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы Революций.
(«Потомкам», 1921)
Но не то еще увидели потомки.
С удивительной отчетливостью хранил память о своих прежних рождениях поэт Даниил Андреев. Вот одно из его стихотворений из цикла Древняя Память (1932–1937)[2].
Индия! – Таинственное имя,
Древнее, как путь мой во вселенной!
Радуга тоскующего сердца, Образы, упорные, как память...
Рассказать ли? – Люди не поверят.
Намекнуть ли? – Не поймут ни слова,
Упрекнут за темное пристрастье,
За непобедимое виденье.
Прикоснусь ли нищею рукою
К праху светлому дорог священных,
Поклонюсь ли, где меня впервые
Мать-земля из мрака породила?
И еще отрывок из другого стихотворения того же цикла:
Но я умер. Я менял лики,
Дни бывания, а не бытие,
И, как севера снег тихий,
Побледнело лицо мое.
Шли столетия. В тумане сиром
Я рождался и отцветал
На безмолвных снегах России,
На финляндском граните скал.
Только родины первоначальной
Облик в сердце не выжечь мне
Здесь, под перезвон печальный,
В этой сумеречной стране.
В личной беседе Д.Андреев говорил, что ему как-то приоткрылась щелочка в сознании, и он узнал, что в прошлой жизни был индусом, принадлежал к касте брахманов, но был изгнан из нее из-за брака с неприкасаемой.
Приведем еще отрывки из большого произведения Детство поэта А.В.Коваленского[3]. Описание относится ко времени его детства, когда он оказался на берегах Рейна:
И мальчику часто грезилось,
Что он в такой же башне каменной
За трудной рукописной книгою
Уже сидел давным-давно, –
И так же гнулись ветки тополя,
И так же сини были сумерки,
И так же зорька дымно алая
Смотрела в узкое окно, –
А по простору мчались всадники,
Монахи трюхали на осликах.
Купцы везли шелка и пряности,
Брел по дорогам пилигрим, –
Ему мерещились так явственно
Обрывки жизни где-то прожитой,
Давно прошедшие события,
Давно прошедшие года.
Обратимся теперь к писателям. Вспомним роман Ф.Достоевского Идиот. Там князь Мышкин мгновенно – по портрету – в каком-то особом смысле узнает Настасью Филипповну, а потом ее же узнает в Аглае:
...почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое.
Кажется, хотя об этом автор прямо не говорит, что здесь – в отношениях Мышкина с этими двумя женщинами, являющимися для него как бы раздвоенным воплощением одной и той же женщины, – разыгрывается драма, не завершенная в какой-то еще глубокой древности жизни. И обе женщины чувствуют в Мышкине своего героя, обе любят его, и только они-то и понимают его. Обратите внимание на многообразие героев Достоевского: Ставрогин, Свидригайлов, Рогожин, Мышкин, братья Карамазовы... но как бы разнообразны они ни были, за всеми мы все же узнаем одного – их автора. Впрочем, то же самое мы можем сказать и о Л.Толстом: князь Андрей, Безухов, Левин, Анна Каренина, Хаджи Мурат... все они – двойники Толстого. Может быть, писателями – настоящими, интересными – и могут быть только те, кто обладает подвижной личностью. Все выглядит так, словно в многомерном семантическом поле весовая функция выделила некоторый паттерн: но веса по фрагментам этого паттерна легко могут перестраиваться. Писатель силой своего воображения создает множество своих двойников[4]. Можно, конечно, думать, что двойники писателя – это воспоминание о его прошлых рождениях или предчувствие будущих. Но нужно ли все так разносить во времени? У Достоевского: Настасья Филипповна и Аглая – это для князя Мышкина одновременно существующие двойники; другие, не обладавшие тонкостью и остротой его зрения, этого не видели.
Любопытно, что многие эзотерические учения хранят представления о двойниках и об их возможной материализации, но об этом мало что известно.
Обратим теперь внимание на странность поведения некоторых людей в повседневной жизни. Допустим, вам рассказывают о том, что кто-то из ваших знакомых неожиданно изменился – хорошо образованный человек, успешно занимавшийся наукой, вдруг принял православие или, скажем, иудаизм, со свойственной им нетерпимостью и узостью стародавних представлений. Однако, внимательно приглядевшись, вы видите, что, собственно, ничего особенного и не произошло – и в своей научной деятельности этот человек был таким же. Паттерн человека остался прежним. Произошло только изменение весов по составляющим паттерна, или, говоря иначе, человек воссоздал своего двойника и прилепился к нему. Можно, конечно, интерпретировать все иначе, говоря, что человек вспомнил одно из своих прежних рождений и вернулся в тот образ, но уместна ли такая интерпретация?
Может быть, самой существенной стороной реинкарнационных воспоминаний является то, что они могут оказывать влияние на принятие важных решений. Здесь мы обратимся к воспоминаниям Юнга [Jung, 1965]. В его жизни одним из самых важных событий был выход из-под влияния Фрейда. Этому способствовал удивительный сон:
Толпа устремилась ко мне, а я знал, что магазины закрываются, и люди идут домой обедать. В глубине толпы шагал рыцарь в полном облачении. Он направлялся ко мне. На нем был легкий шлем с забралом с прорезью для глаз и кольчуга. Поверх нее была надета белая туника, на груди и спине которой был выткан большой красный крест.
Легко представить себе, что я мог почувствовать, увидев вдруг в современном городе средь бела дня, в час пик, крестоносца, приближающегося ко мне. Особенно поразительным было то, что люди, проходившие мимо, казалось, не замечали его.
В последующие дни я много думал о таинственной фигуре рыцаря. Но только позже, после длительных углубленных размышлений об этом сне, я смог найти ключ к разгадке его смысла. Даже во сне я знал, что рыцарь был фигурой двенадцатого века. Это было время алхимии и поисков священного Грааля. История Грааля имела для меня особое значение с тех самых пор, как я впервые прочел ее в возрасте пятнадцати лет. У меня было такое чувство, что в ней скрыта великая тайна. Поэтому мне показалось совершенно естественным, что во сне возник мир рыцарей Грааля с их поиском, так как это был в самом глубоком смысле мой собственный мир, который едва ли имел что-либо общее с миром Фрейда. Всем своим существом я был устремлен на поиск чего-то еще неведомого, превозмогающего банальность жизни (с. 164-165).
Мы видим, что через сновидение реинкарнационного характера Юнг ощутил всю глубину пропасти, отделяющей его от примитивизма фрейдовского материализма.
Хочется отметить здесь и то, что иные психические заболевания выглядят как погружение в далекое прошлое. Это со всей отчетливостью можно проследить, скажем, на рисунках детей, больных шизофренией. В книге [Болдырева, 1974] обращается внимание (в обзоре литературы) на то, что некоторые авторы сравнивают художественную продукцию психически больных, в том числе и страдающих шизофренией, с архаическим искусством и искусством первобытных народов. Но встречаются и такие случаи, которые можно рассматривать как значительно более глубокую реминисценцию. Один из примеров, упомянутых в обзоре, – это больной шизофренией, отождествлявший себя (в парафренном состоянии) с рыбой и рисовавший преимущественно рыб. Из практики своей деятельности Болдырева приводит такой пример:
Вова Б., 6 лет (шизофрения, вялое течение), в 2 года начал фантазировать, в разговоре часто упоминал о выдуманной им стране «Мундирии». Говорил, что в этой стране все лучше, чем в жизни, и звери, и ягоды, и растения. В «Мундирии» будто бы выстроен громадный аквариум из сосен, в котором живет огромный осьминог – лучший друг больного. Мальчик «ходил» с ним на «встречи», «ездил на французскую войну» и, чтобы осьминог быстрее двигался, «надевал» ему на каждую лапу по колёсику. В 2 года он прекрасно для своего возраста нарисовал осьминога с глазами, носом и восемью ногами. Рядом мальчик изобразил человека с основными частями. Затем нарисовал обезьянку, кошку. Все рисунки выразительны, оставляют хорошее впечатление, но преобладает осьминог. В 3 года Вова Б. стал посещать детский сад, придумывал себе и матери имена. Себя называл «Долгопят Филиппинский», а мать – «Нос обыкновенный».
Тематика рисунков больного необычайна для детей: схемы, города, планировка, пути на Марс. Больной жил своей фантазией и с трудом переключался на другое. В 4 года задавал странные вопросы: «Как получается море, дождь?», «Сколько весит капля, когда она падает на землю?» и т.д. Выслушав ответ, говорил, что в «Мундирии» все не так. Рассказывал, что она находится у Северного полюса, куда он «летает» на ракете. В другой раз говорил, что эта страна заменила планету Марс. Считал, что в «Мундирии» он самый главный. Там есть океан, который больше Тихого океана и называется «Аландея». Все эти фантазии находили отражение в рисунках и их названиях.
В 5 лет мальчик стал употреблять в разговорной речи неологизмы, произнося набор непонятных, бессвязных слов, называя это «мундирским языком». Всех жителей выдуманной страны он разделял на военных и разных драконов: «подводных», «дождевых», «наскальных», «пещерных». Этих драконов он рисовал в большом количестве... Изображал также разнообразных чудовищ. Переключить его с фантазии на другие темы трудно. Если иногда и удавалось достигнуть этого, то по заданию он рисовал очень неохотно (с. 61-62).
К сожалению, ничего не сказано о том, что же стало с этим мальчиком позднее. Может быть, выздоровление такого психически больного – это возможность найти своего двойника, подходящего для социума наших дней? А имея талант, не стал бы этот человек признанным художником, поэтом? Безумие Гогена, вся непонятность его поведения в западном мире, неприятие его – не есть ли это напряженная устремленность в мир ранней, непосредственной культуры, носящая реинкарнационный оттенок? Таити становится его обретенной прародиной, где он раскрывается как художник.
Мир больного ребенка для него самого был реальностью, миром фантазии он оказывается только для врача-психиатра. И те поэты, стихи которых мы приводили выше, – разве они не жили в таком же мире фантазий, воспринимаемых ими как реальность? Они сами об этом говорят открыто. А мы – читатели – оставляем за ними право на бытие в нереальности только потому, что они поэты: Quod licet jovi, non licet bovi.
Другая реальность доступна художникам, провидцам и пророкам. Вспомним Е.Блаватскую – основательницу современной квазирелигии (о ней мы немного говорили в гл. 11, § «И», – так ли уж сильно отличается ее Тайная доктрина (сокращенный вариант см.: [Preston&Humphreys, eds., 1966]) от фантазий больного мальчика? То же можно сказать и о ставшей теперь популярной работе Д.Андреева Роза мира. А обращаясь к далекому прошлому, то же мы видим и у Свифта, и у Данте. Наша культура, как и культура прошлого, пронизана фантазиями из мира иных реальностей, чаще всего носящих реинкарнационный характер. Почему психологи и культурологи закрывают на это глаза? Ведь нереальность, входя в культуру, становится уже реальностью этой культуры. И если крайние формы погруженности в нереальность есть шизофрения, то не шизофренична ли и вся культура в целом? Но такой ход мысли ничего не проясняет – не примиряет нас с тем, что мы наблюдаем в повседневной нашей жизни.
Можно обратить внимание на другое – странное, но признаваемое нормальным поведение некоторых людей. Представьте себе, что в каком-то городе поздней осенью вы идете по набережной и видите, как здоровенные мужики стоят часами с удочками, чуть не по пояс в грязной и холодной воде. Ничего или почти ничего не ловится, а они все стоят и стоят. Какая составляющая паттерна их личности заставляет их стоять в холодной воде? Что это – опять навязчивое воспоминание прошлого?
Можно, наверное, сколь угодно расширять набор подобных примеров. В повседневности нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с такими ее проявлениями, которые кажется естественным объяснять исходя из представлений о реинкарнации. И, тем не менее, думается, что пришедшее к нам с Востока учение о последовательных воплощениях является весьма наивным. Правда, в буддизме – наиболее зрелой разработке восточной мысли – все связанное с представлениями о реинкарнации выглядело достаточно серьезно. Приведем небольшой относящийся сюда отрывок из книги [Sangharakshita, 1980]:
Что значит «вновь воплощенный»? Говорить, что «существо» вновь воплощенное – то же существо, что недавно умерло, было бы крайним проявлением обессмерчивания. Говорить, что они неидентичны, было бы нигилизмом. Избегая обеих крайностей, Будда учит Срединному Пути, а именно доктрине Обусловленной Co-причинности. «Если есть то, бывает это; через возникновение этого происходит то». Возрождение имеет место, но фактически никакое, «существо» не рождается повторно. Опровергая саму сущность глубоко укоренившейся в нас иллюзии перманентной индивидуальности, в этом своем приложении к процессу повторных рождений Пратитьясамутпада[5] является одной из самых трудных идей во всем учении Буддизма. Она поддается интеллектуальному восприятию только при условии беспристрастного изучения и углубленной медитации (с. 96).
Европейская мысль, стремящаяся к точности и определенности высказываний, упростила и вульгаризировала идею. Широко распространенное на Западе представление о реинкарнации выглядит уныло. Это не более чем некое начальное и весьма грубое приближение. Исходные посылки этой модели, если ее подвергнуть логическому анализу, представляются удручающими. Их, по крайней мере, три:
1) уверенность в устойчивости человеческого Я на протяжении почти нескончаемого ряда рождений, а также с неизбежностью и в промежутках между рождениями. Это явно бросает вызов представлению об иллюзорности дискретного Я, звучащему как лейтмотив на том же Востоке; карма – в ее эволюционном звучании – представляется удивительно эгоцентричной: можно и нужно заботиться о ее изживании в чисто личном плане, вне социального и исторического контекста;
2) убежденность в существовании некоего абсолютного Времени – однородного, линейного... в том его наивном понимании, которое мы получаем из некритического восприятия опыта нашей повседневности;
3) уверенность в существовании некоего безусловного, однозначно действующего закона, напоминающего механистическое представление о законе в физике, скажем, во времена Лапласа[6], хотя всей силой своего воображения мы не можем сейчас представить себе, как Закон Кармы может быть записан, а если нечто свершающееся не может быть достаточно компактно записано, само представление о законе теряет всякий смысл.
Если теперь посмотреть на учение о карме в плане логически мыслимого статистического анализа, то и здесь немедленно возникнут трудности. С одной стороны, легко найти примеры, когда в одно и то же время совсем разные люди воспринимают себя реинкарнационно связанными с каким-нибудь одним и тем же историческим лицом, скажем Наполеоном. С другой стороны, население Земли неизменно растет, и если всех живущих на ней реинкарнационно редуцировать к далекому прошлому, когда население планеты было совсем малым, то что же получится? Мы понимаем некоторую неуместность подобных рассуждений, но совсем отмахнуться от них все же нельзя.
Теперь, после того как мы так расширили наше видение Мира, надо с большой осторожностью относиться к представлениям о карме.
Кажется разумным ограничиться высказыванием о том, что Мир перед нами предстает в двух своих ипостасях – континуальной и дискретной. Одним из дискретных проявлений Мира является человеческая личность, существующая в собственном Времени. По-видимому, нелепо было бы пытаться проследить судьбу человеческого Я вне его собственного Времени, так же как бессмысленно ставить вопрос о судьбе (об истории) физической частицы вне границ ее проявленности. Кажется, мы теперь убедились в том, что все наши попытки осмыслить природу Времени как бы многообразны они ни были – это не более чем поиск подходящего языка для описания проявленности. Непроявленное во Времени не может существовать, так как для нас немыслимо вневременное бытие. Это, наверное, не столько свойство самого Мира, сколько свойство нашего сознания. Но о Мире мы можем говорить лишь в той мере, в какой мы способны его осознавать, иначе происходит самообман. Эти рассуждения, основанные на анализе нашей способности понимать, разрушают наивные представления о реинкарнации.
Интересно обратить внимание на то, что в буддизме описание реинкарнации выглядит так, словно оно опирается на представление о замкнутости Времени. Сошлемся здесь опять на книгу [Sangharakshita, 1980]:
Между прекращением последнего момента сознания, принадлежащего последнему рождению, и возникновением первого момента сознания нового рождения, согласно современной Тхераваде[7], нет интервала (с. 95-96).
Создается впечатление, что в личностном плане, следуя этой логике, происходит нечто, соответствующее пересечению мировой линией пространственно-временных событий ее прошлого. Здесь, естественно, вспоминается концепция Гёделя, о которой вскользь говорилось в гл. 15. Мы, конечно, далеки от того, чтобы использовать подходы современной космогонии для обоснования представлений о реинкарнации. Важно другое – появление сходных представлений о Времени при попытке осмыслить, казалось бы, совсем далеко отстоящие друг от друга проблемы. И опять мы сталкиваемся здесь с тем, что традиционная концепция Времени оказывается недостаточной, а попытка расширить ее – не есть ли это еще одно свидетельство его иллюзорности?
Выше мы уже много раз говорили о том, что индивидуальность человека – это особое состояние семантического поля. Иными словами, человек осуществляет селективную проявленность Семантической Вселенной. Селективная проявленность, как уже отмечалось, может варьироваться, создавая двойники. Возникновение двойников, погруженных в культуры прошлого, по-видимому, и порождает многие из тех явлений, которые мы склонны рассматривать как реинкарнационные.
Это предположение можно усилить почти очевидным утверждением о том, что все прошлое человечества продолжает жить в нас в какой-то субтильной форме. Культуры прошлого не умирают полностью уже хотя бы потому, что их воплощенность не имеет четко определенных границ, но всегда размыта, и, несомненно, более размыта, чем воплощенность индивидуального человека. У культуры нет отчетливо видимого тела, разрушение которого обрывает возможность ее Делания. Замирание культуры – это растягивание шкалы S – ее Делания (подробнее о шкале Делания см. гл. 6), но коэффициент растяжения шкалы к хотя и может увеличиваться сколь угодно, но никогда не устремляется к бесконечности. Иными словами, скорость течения собственного Времени культуры, как бы она ни была мала, не устремляется к нулю.
Сказанное, конечно, только модель, обостряющая нашу мысль. Если мы теперь обратимся к реальной жизни, то увидим в ней множество вкраплений прошлого – античная мысль в философии, римское право в юриспруденции, византизм в православии, а может быть, и в государственности. Все это – не мертвый след былого, а живые, варьируемые во Времени проявления. Мы постоянно видим, как новое оказывается на исторической сцене не больше чем пародированием, казалось бы, давно ушедшего старого. Так, скажем, многие уже обращали внимание на то, что нацистское представление о превосходстве арийской расы – это не более чем пародирование ветхозаветного представления о богоизбранности еврейского народа (см., например, [Gerson, 1969]). Точно так же в науке, в самых новых ее построениях, находим подчас отголоски давно отзвучавших идей (см, например, книгу американского физика Капра [Сарга, 1975] о близости идей современной физики к даосизму и работу [Nalimov, Barinova, 1974] о предтечах идей кибернетики в философии Древней Индии). На самом деле мы живем в сплетении всех культур былого. И тот, кто это остро ощущает, в одном из своих двойников может пережить себя и эллином, и рыцарем Средневековья. Медитация, глубокие сновидения или даже просто психоделические средства открывают некую суть вещей, известную поэтам. И если мы не удивляемся тому, что, скажем, писал, а, следовательно, и переживал М.Волошин, то почему надо удивляться медитативным инсайтам или «откровениям» пациентов Грофа?
Все это не более чем свидетельство целостности Мира, неутраченности прошлого в глубинах нашего бессознательного.
Сказанное здесь, если хотите, можно рассматривать как второе приближение к построению модели кармы, лишенной теперь персоналистической доминанты. В этой модели на первое место выходит представление о кармической роли культур[8] – образование значительно более размыто и более разнесено во времени, чем персональность человека. Такое – аперсональное – видение кармы нужно уже хотя бы потому, что сейчас, наряду с фрейдовской и юнговской терапией, появилась философская в своей основе, трансперсональная терапия, направленная на деидентификацию – выход в трансперсональные размерности экзистенции (см. работы [Vaughan, 1979], [White, 1979], [Boorstein, 1979], [Welwood, 1979][9].
Жестко фиксированное Я, его негибкость, нединамичность – это состояние очень тяжелое как для самого человека, так и для окружающих. Человек оказывается вне социума, продолжая существовать в нем. Общение с другими, кроме самых примитивных проявлений, становится человеку в тягость – зачем они ему, если он должен оставаться неизменно одним и тем же: всегда самим собой. Может быть, современная культура усиливает эгоцентрированность? Один из показателей этого – нарастающее число разводов. Жить вдвоем становится нестерпимо. Возможно также, что так называемый инфантилизм молодежи есть не что иное, как проявление все того же эгоцентризма. Человек теряет интерес ко всему, а, следовательно, и способность что-либо делать только по тому, что он все время сам в себе – замкнут на себя, озабочен собой, изнежен. Однако это серьезная тема, она требует специального изучения. Но уже сейчас представляется, что трансперсональная устремленность выглядит как импульс контркультуры, может быть, более серьезный, чем такие спонтанные вспышки, как, скажем, движение хиппи.
Преодоление капсулизированности Я открывается через взаимодействие. Напомним, что одно из проявлении веры в реинкарнацию основывается на том, что люди, раз вступив в глубокое взаимодействие в земной жизни – скажем, полюбив по-настоящему или принеся большое зло друг другу, – сохраняют связанность навсегда. Любопытно, что эта убежденность, многими воспринимаемая как наивное суеверие, имеет что-то общее с  – парадоксом в физике высоких энергий. Этот парадокс является частным случаем хорошо известного парадокса Эйнштейна, Подольского и Розена. Вот как об этом мысленном эксперименте пишет Лестьен [Lestienne, 1973]:
– парадоксом в физике высоких энергий. Этот парадокс является частным случаем хорошо известного парадокса Эйнштейна, Подольского и Розена. Вот как об этом мысленном эксперименте пишет Лестьен [Lestienne, 1973]:
В этом случае парадокс состоит в том, что пара субъядерных частиц, возникающих в некотором ядерном взаимодействии, будучи пространственно разнесенными на десятки сантиметров во время распада, не могут распадаться независимо друг от друга. Грубо говоря, если первая распадается в течение короткого интервала времени, вторая должна сделать то же в течение длительного интервала времени, и наоборот.
Бесполезно думать о том, был ли передан сигнал от частицы А к частице В, чтобы сообщить: «Я распалась, теперь ты распадайся, дождавшись своей очереди». Такой сигнал должен был бы распространяться с бесконечной скоростью...
Следовательно, если мы хотим избежать парадокса, необходимо совершенно отбросить идею о разделенности квантовых систем, даже если они всего лишь однажды взаимодействовали в своей истории (с. 94).
Здесь единичное взаимодействие уже порождает связанность. Отсюда проясняется смысл Делания – через него раскрывается сопричастность друг другу, а, следовательно, и всему существующему, даже в мире элементарных частиц.
И если в квантовой механике пришлось отбросить представление о разделенности квантовых систем, то еще больше оснований у нас есть для того, чтобы отказаться от представления об изолированности человеческого ЭГО.
Отметим, что парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена – это один из самых серьезных вызовов, брошенных квантовой механике. Он смыкается со спором о полноте квантовой механики между Бором и Эйнштейном. И до сих пор остается неясным, может ли проблема полноты быть разрешена введением так называемых скрытых параметров, которые должны обладать какими-то исключительными свойствами. Представление о скрытых параметрах одно время казалось несостоятельным, но теперь оно приобрело новое звучание [Bohm, 1980]. И здесь невольно возникает мысль, не является ли парадокс реинкарнации (от рассмотрения которого нельзя уклониться) свидетельством глубокой неполноты в исходных современных научных представлениях о природе человека?
Модель второго приближения обнажает проблему потенциальности. Если Мир предстает перед нами в своей двоичной ипостаси, то что представляет собой потенциальность, создающая проявленность Мира в его нескончаемом многообразии? Если персональность человека – это только селективная проявленность Семантической Вселенной, то кем – какими силами – задается эта селективность, почему и как избирается тот или иной контекст той психологической реальности, с которой мы себя отождествляем? Здесь мы еще раз обращаемся к вопросу, который уже пытались рассматривать выше, в гл. 9.
Ответа на этот вопрос нет. Человечество всей силой своего воображения пыталось найти образ потенциальности. Но единого образа не получалось.
В даосизме – это спонтанность, порождающая гармонию вне какого-либо закона;
в индуизме – танцующий Шива, Мир, возникающий в Игре;
в иудаизме – суровый бог Яхве, владеющий законом и избравший из всего сотворенного лишь один излюбленный им народ – евреев;
в гностицизме: для высших сфер существования – это спонтанность рождения, для Мира материального – его сотворенность Демиургом, творцом, находящимся вне Бога и даже противостоящим ему;
в научной традиции: иудаистский вариант – сотворение Мира изначальными законами природы, которые сами не были сотворены.
Если сузить задачу и обсуждать только потенциальность, порождающую персональность человека, то и здесь мы не находим удовлетворяющего нас образа.
Одним из вариантов был образ судьбы. Судьба – так, по крайней мере, было в Элладе – это потенциальность, отнюдь не личностная, а общеисторическая, включающая человека в исторический водоворот, готовящая к нему, ждущая от человека какого-то Делания как реагирования на тот исторический вызов, перед которым он ею поставлен. По странному стечению обстоятельств сейчас перед нами исторический роман Мэри Рено Тезей [1991]. Он читается как реинкарнационная медитация о герое Тезее, сыне Эгея, царя Афин. Через всю эту книгу проходит поражающее нас дыхание судьбы. Западная мысль в своем литературно-художественном творчестве постоянно возвращается к образу судьбы. Вспомним Синюю птицу Метерлинка – там, в Лазоревом царстве, Хронос – Время, отождествляемое с Судьбой, отправляет душу в мир воплощений: на земле нужен герой, необходимо восстановить справедливость. В романе Б.Пастернака Доктор Живаго судьбинность становится лейтмотивом событий. Набат революции поднимает метель, метущую во все пределы и навстречу судьбе... а свеча горела...
Мало, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Может быть, у истоков нашей культуры другим образом потенциальности было Имя. В древности Имени придавалось удивительно большое значение. Вспомним: в Евангелии от Иоанна говорится, что Христос открыл своим ученикам Имя Бога. У Экхарта мы читаем о том, что никто еще не произнес Имени Бога во времени. С.Н.Булгаков [1953] попытался восстановить утраченный смысл этого символа. Вот отрывок из его книги:
Идеи есть словесные образы бытия, имена – осуществление (с. 60).
В слове как заключительной формуле, по смыслу сказанного, действует космическая сила, которая становится ощутима через посредство слова, стало быть, в известном смысле трансцендентная по отношению к феноменальному миру и слову в обычном значении (с. 148).
И все же мы должны признать, что представление о потенциальности находится за пределами нашего воображения. Мы не можем представить себе то, что не можем пережить. Любой образ здесь будет пустым, так же как пустой будет и любая модель. Оказывается, что и в науке – в ее теоретических построениях – человек может воспроизвести только то, что он мог пережить в своем внутреннем – психологическом – опыте. Потенциальность – это тайна, стоящая перед нами. Разгадка ее может лежать только в расширении нашего сознания. И мы должны признать, что попытка разрешить эту тайну в традиционном учении о карме кажется сейчас все же достаточно неуклюжей.
Но как бы то ни было, какую радость мы испытываем, когда встречаем человека, живущего в многообразии культур. Лишь для него оказывается открытым широкое видение Мира, наполненное всем богатством смыслов, открывшихся человечеству.
Закрут культур с особой остротой проявляется в критические периоды истории. Так было в дни Средиземноморья – задолго до христианской эры все духовное богатство Мира стало стягиваться к одной точке: контакты предсократиков с Персидской империей; путешествия (как говорит об этом легенда) Платона и Пифагора в Египет, а может быть, даже к долинам Индии; победы Александра Великого, поставившие эллинский Мир лицом к лицу с культурой Индии... Александрия становится духовным центром – так создается то густо насыщенное идеями и мифами поле, в котором раскрывается и обогащается христианство. (Возникший в христианстве симбиоз идей хорошо раскрыт в книге [Blavatsky, 1877].) Так происходит и в наши дни, когда мысль Запада так широко соприкоснулась с духовным опытом Востока, наука – с религией, и поруганное гностическое прошлое самого христианства открылось, пролежав в укрытиях почти два тысячелетия. Многое скрытое и забытое вспомнилось и вышло на поверхность.
В такие дни обостряется непонимание друг друга. Чем больше открывается одним, тем труднее это понимать другим. Оказывается, понять другого – это значит открыть в себе двойника, который становится близнецом другого. Понимать – значит становиться близнецами. Но понимание есть знание. Так перед нами открывается и смысл того, что Знание и Любовь – это синонимы, потому что в Любви с большей очевидностью, чем где-либо, происходит перестройка самого себя – открытие в себе того своего двойника, который несет новое Знание. В тантризме, о котором мы уже говорили выше (гл. 10), любовники долго выявляют в себе двойников. В последнем – кульминационном – акте двойники узнают друг друга, отождествляются...
Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,
Чтоб странный и светлый с безумного ложа,
Как феникс из пламени, встал Андрогин.
(Н.Гумилев)
Границы личности теряются. Узнавая себя в другом, человек узнает себя и во всем. Чудо на кресте: в критический момент разбойник порождает в себе двойника, в котором узнает Христа, и Христос в нем узнает себя. Так чудо свершается через Любовь, которая есть и Знание, раскрытое в самом себе. Гностическое христианство оказывается дополнением христианства Любви. Мы начинаем понимать, что раскрытие человека, выход его за границы самого себя происходит через способность к воображению. Любовь и особенно то ее проявление, которое называется состраданием, становится синонимом воображения [Thurman, 1979]. Синонимия: все наши фундаментальные представления оказываются только синонимами, поскольку они отражают нечто Единое. И все же –
«Мы только знак, но невнятен смысл».
[1] Второй том этого трехтомного издания посвящен описанию десяти реинкарнационных проявлений в Шри Ланке, третий – описанию двенадцати случаев в Ливане и Турции (в распоряжении автора имеется 1300 случаев, относящихся к различным странам и разным культурам). В первом томе представлено обстоятельное описание методики работы автора с подробным анализом источников возможных ошибок. В конце третьего тома автор опубликовал главу, посвященную общей дискуссии. Эта серия закончилась публикацией 4-го тома, посвященного Таиланду и Бирме [1983]. Последняя из известных нам книг – [Stevenson, 1987], где дан перечень его публикаций на эту тему, включающий 31 наименование.
[2] Д.Андреев (1906–1959) – русский поэт, сын писателя Леонида Андреева. Стихотворение приводится из воспоминаний о Д.Андрееве И.В.Усовой, семья которой долгие годы поддерживала с ним дружеские отношения и собирала его произведения. Одна из рукописей Даниила (Странники ночи) была посвящена И.В. и пропала при его аресте.
[3] А.В.Коваленский (умер в 1966 г.) – писатель, поэт и переводчик (печатался только как переводчик). Он был репрессирован по делу его дальнего родственника Даниила Андреева. Произведения Коваленского, видимо, погибли безвозвратно.
[4] Двойниками мы будем называть отнюдь не идентичные личности, а лишь личности, корреляционно связанные. При этом коэффициент ранговой корреляции для признаков, задающих эти личности, может быть как положительный, так и отрицательный, или, иными словами, двойники могут быть как синонимами, так и антонимами. Представление об иллюзорности личности – это умение видеть себя во всем многообразии своих двойников. Если двойники становятся статистически не связанными (ранговый коэффициент корреляции значимо не отличается от нуля), то это уже случай катастрофический, свидетельствующий о шизоидности – раздвоении, отчужденности.
[5] Пратитьясамутпада – зависимое происхождение (санскр.); утверждает законосообразность явлений.
[6] Лаплас, как известно, был уверен в том, что в принципе весь мир в его прошлом, настоящем и будущем может быть описан через дифференциальные уравнения.
[7] Тхеравада (буквально – учение старейших) – одно из направлений современного буддизма, единственно сохранившаяся школа (строго соблюдающая традицию) направления Хинаяна («малая колесница» или «узкий путь»), противостоящего второму направлению – Махаяна («большая колесница», «великий путь»).
[8] Идея кармы здесь раскрывается в том, что неизжитое в культуре в момент ее расцвета продолжает изживаться в ее последующем – стареющем – состоянии. Закат культур в наши дни охватывает все более и более широкий круг народностей. В книге Беллаха [Bellah, 1976] обращается внимание на то, что народы Азии и Африки теперь оказываются вовлеченными в изживание (не изжившей себя) культуры западного Мира. От себя добавим, что западная культура не сумела изжить идущее еще от Ветхого Завета право беспредельно властвовать над Природой, что и привело к проблеме глобального кризиса, которую теперь приходится решать всем народам.
[9] Отметим здесь, что проблема психологического здоровья в широком ее понимании входит в тематику журнала JournalofHumanisticPsychology. Привлекает внимание новый термин: целостное (холистическое) здоровье.
Назад в раздел