Василий Васильевич
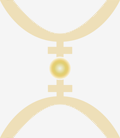 |
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОТИВ ДИСКРЕТНОСТИ В ЯЗЫКЕ И МЫШЛЕНИИ
Фрагмент из книги1. Безграничная делимость смысла слов как показатель непрерывности мышления<…> мы попытаемся перебросить мост между языком и мышлением. В бейесовской модели языка, объясняющей столь многие особенности речевого поведения человека, имплицитно оказывается заложено и представление о континуальности мышления. Попробуем сейчас развить эту мысль в деталях. Слова, как это следует из всего, что говорилось раньше, имеют две ипостаси – атомарную и континуальную. Логические конструкции строятся над смысловым дискретом – знаком, являющимся инвариантом всего смыслового содержания размытого поля значений. Знак является сигналом, кодирующим поле смысловых значений. Осмысление логических конструкций – их декодирование – происходит на континуальном уровне. Из континуального сознания берется априорное представление о распределении смыслового содержания слова и к континуальному сознанию оказывается обращенной априорная функция распределения селективно ориентированного смыслового содержания слова после осмысливания его в тексте фразы. Чтобы перейти от анализа языка к изучению мышления, надо суметь хоть как-то оценить степень размытости слов. Слова можно объяснять только через слова. Некоторое представление о размытости слов дают словари – толковые и двуязычные. Здесь число объясняющих слов является тем показателем, который характеризует размытость входных слов словаря. На рис. 14 даны функции распределения[1], показывающие, как распределены входные слова по числу объясняющих их слов в трех словарях.
Мы видим, что в двуязычных словарях имеется острый максимум, лежащий где-то между 5 и 10 разъясняющими словами. Основная масса слов – кодов одного языка – хотя и неоднозначно, но не очень многословно разъясняется через такие же знаки другого языка. В толковом словаре, где делается попытка расширенно толковать слова языка в своих же собственных словах, максимум оказывается уже значительно более размытым и смещенным вправо примерно слов на десять. Интересны хвостовые части кривых. У малого двуязычного словаря максимальное число поясняющих слов 87, у большого двуязычного словаря – 1362, у толкового словаря – 471. Сравнение двуязычных словарей показывает, что переход от малого к большому словарю включает в себя два процесса. Первое – это обогащение легко объясняющимися словами – именами. В большом словаре появляются, скажем, такие слова-имена как
Второе – это расширение толкования слов, включенных в малый словарь. Вот один из примеров: «set» – одно из самых страшных слов английского языка, в малом словаре оно разъясняется 96 словами, в большом – уже 1816 словами. Интересно, что при переходе от малого словаря к большому число входных слов увеличивается в 7,5 раза, а число печатных листов – в 13,4 раза. Первый из упомянутых выше процессов приводит к тому, что и у большого словаря сохраняется острый пик, второй – к образованию длинного хвоста. Мы видим, что углубленное проникновение в язык сопровождается, с одной стороны, обогащением словами типа имен собственных, с другой стороны – расширением смыслового толкования сложно осмысливаемых слов[2]. И все же любой, сколь угодно большой словарь не охватывает всего потенциально возможного многообразия смыслового содержания слов. Иллюстрируем это здесь примерами.
Из вероятностной модели языка, записанной с помощью теоремы Бейеса, следует, что функция р(у/μ), возникающая при чтении фразы, действует как своеобразный остро настроенный избирательный фильтр, позволяющий выделить из смыслового поля слова некую совсем узкую область. Механизм фильтрации здесь удивительно прост. Априорная функция распределения смыслового содержания слова может быть устроена так, что какие-то смежные области имеют почти одинаковые вероятности, и тогда они оказываются неразличимыми, если слово рассматривается само по себе, вне какого-либо контекста. Но, наверное, всегда можно придумать такие фразы, для которых р(у/μ) будет выглядеть почти как δ-функция, и тогда в соответствии с теоремой Бейеса произойдет отфильтровывание области, не отличимой (вне контекста) от смежных областей. Приходится признать следующее: Мы никогда не можем утверждать, что нельзя придумать еще одной фразы, которая как-нибудь иначе, чем это было ранее, раскрывала бы смысл слова. И именно в этом и только в этом смысле можно говорить о континуальности мышления, если исходить из анализа семантики языка. Смысловое поле слов безгранично делимо[3]. Представление об атомах смысла, столь необходимое для построения логической семантики, в психологическом плане не более, чем некоторая иллюзия. Мне как-то была подсказана возможность интерпретации представления о континуальности смысла слов путем сопоставления (весьма вольного) с хорошо известным в математике понятием дедекиндова сечения. Это конструктивный метод введения иррациональных чисел как некоторых разбиений рациональных чисел. Пример: Новое, неожиданное значение слова всегда воспринимается как что-то внерациональное, т. е. как метафора, которая вклинивается куда-то между близкими смыкающимися значениями двух обыденных, привычных нам смыслов слова. Бесполезно пытаться задать все возможные метафоры каким-либо словарным списком. Метафоры могут быть заданы только конструктивно – новыми фразами, отражающими новую жизненную ситуацию или новый поворот мысли. Новая метафора начинает терять свой метафорический статус по мере того, как она входит в русло привычного языкового поведения. Так происходит обогащение языка – он обогащается, когда открывается то, что в нем уже было потенциально заложено. Через старые слова мы открываем новый смысл в привычных нам словах. Ранее в этой книге мы ставили вопрос: что в большей степени характеризует развитие культуры – рост числа новых слов или расширение смыслового содержания старых? Сейчас мы можем дать такой ответ на этот вопрос: появление новых слов расширяет смысл старых, ибо новые слова позволяют строить новые фразы, открывающие новый, ранее скрытый, смысл в старых словах. Так в языке проявляется диалектика непрерывного и дискретного. Математики, особенно те, кто связан в своей деятельности с ЭВМ, не увидят каких-либо принципиальных трудностей для дискретных устройств по сравнению с непрерывными. И действительно, если нам, скажем, нужно найти площадь под кривой, не заданной аналитически, то это не вызовет особых неприятностей, если с кривой могут быть считаны точки с любым, сколь угодно малым шагом. Но нелепой была бы сама постановка задачи, если нам было бы дано только кодовое обозначение кривой и весьма нечеткое ее описание через кодовые обозначения других, таким же образом заданных кривых. А в языке мы именно с этим и сталкиваемся: нам известно слово – кодовое обозначение смыслового поля – и некое неясное описание этого поля, данное через другие, такие же кодовые обозначения. Все многообразие смыслового содержания остается скрытым – оно выявляется только через потенциально заложенную возможность построения безграничного набора фраз. Континуальное смысловое содержание, стоящее за дискретными символами языка, оказывается принципиально неизмеримым. Нам доступны отдельные его фрагменты, возникающие у нас при интерпретации тех или иных фраз. Важно обратить внимание и на то, что каждый язык имеет свою особую систему входа в континуальные потоки сознания. Если осмысливание нашей повседневной речевой коммуникации происходит на континуальном уровне, то можно высказать предположение о том, что само мышление существенно континуально. Отсюда постоянно повторяющиеся даже у поэтов высказывания о недостаточности выразительных средств языка. Ритм в поэзии и песнопении – попытка наложить континуальную составляющую на дискретные носители речи. Смутные предания о лемурийцах, чья речь была подобна журчанию ручья, – отголоски о дологических, континуальных формах коммуникации. Пластические виды искусства – единственно оставшиеся у нас формы континуальной коммуникации. В музыке дискретные знаки нот сами не являются средствами коммуникации – это только запись того, что надо делать, чтобы воспроизвести континуально воспринимаемую последовательность звуков. А вот абстрактная живопись – это уже попытка построения существенно дискретной коммуникации для эмоциональной сферы жизни. Реликтовые формы дологической коммуникации сохранились в простонародной речи. Такой, например, является речевая традиция европейских крестьян от сервантесовского Санчо Пансы до толстовского Платона Каратаева. Оба неграмотны, оба сыплют пословицами, оба не слишком заботятся о логической последовательности, и оба несут в себе многие ценности... характерные для устной культуры [Goody et al., 1968, p. 61]. Но можно указать и на нечто более удивительное – на культуры молчания. Одна из них – культура русского средневековья, истоки которой восходят к византийскому исихазму [Мейендорф, 1974]. Ее дух выражен в пластических формах архитектуры церквей, в заставках к священным книгам, в иконах... но не в словах. Не осталось понятной для нас словесной интерпретации священных текстов, той интерпретации, которая позволила бы нам – людям культуры слова – понять особенность русского средневекового мировоззрения. Перед нами не только иконологическое мышление, но и иконологическая форма выражения этого мышления [Померанц, 1974]. Многие по собственному опыту знают, как необычайно выразительны и значительны становятся фрагменты научного текста, если им удается придать внутренний ритм. Многообразный ритм повествовательной прозы, видимо, только сейчас становится объектом серьезного изучения [Чичерин, 1974], хотя мы всегда его внутренне ощущаем. О семантике ритма поэтических текстов мы подробно расскажем в третьем параграфе. Религиозные тексты всегда организованы так, чтобы там ощущался внутренний ритм. И именно эта ритмическая организация придает ему особую убедительность: «Система заповедей может быть не совсем логичной, но она непременно подчинена единому ритму, она поэтически организована ... Не существует никакого образа новой морали, сравнимого со «страстями» Баха, рублевским Спасом, гандахарским Буддой» [Померанц, 1974, с. 423–424]. Нельзя ли все это рассматривать как прямое обращение к континуальной составляющей человеческого мышления? 2. Необычное – измененное состояние сознания как прямое проявление непрерывности мышленияМы отдаем себе отчет в том, что наш подход к противопоставлению языка мышлению может быть подвергнут критике. Одно из возможных возражений может быть сформулировано примерно так. Если мозг человека действует как дискретная вычислительная машина, то не может ли оказаться так, что та его часть, которая ответственна собственно за мышление, имеет на несколько порядков больше элементарных дискретных носителей информации, чем другая его часть, ответственная за наше языковое поведение, – внешне это будет выглядеть так, что мышлению мы будем приписывать континуальный характер, языку – дискретный. Мы готовы принять этот вызов и можем противопоставить ему ряд фактов, известных из психологии мышления, антропологии и психиатрии. Эти факты, как нам кажется, непосредственно свидетельствуют о континуальной природе мышления. Попробуем, хотя бы совсем коротко, осветить их здесь. Рефлективное мышление и творческое озарение. Одной из составляющих мышления является коммуникация человека с самим собой. Здесь опять-таки используются средства нашего обыденного – дискретного – языка. Рефлективное мышление – это дискретное управление континуальным потоком мысли. Человек на дискретном языке задает вопрос самому себе, своему спонтанно протекающему мыслительному процессу. Получая какой-то ответ, он анализирует его на логическом уровне, и, если ответ его не удовлетворяет, то ставится следующий, видоизмененный вопрос. Отсюда, кстати, и тот глубокий интерес, который проявляют современные философы-логики к анализу смысла вопросов (см., например, [Хинтикка, 1974]). Открытие – это неожиданно пришедший в голову ответ на содержательно поставленный вопрос. Даже в области математики открытия происходят не на уровне логического мышления. Логическими средствами осуществляется только постановка задачи и проверка найденного решения, которое приходит как озарение. Психологии математического творчества посвящена интересно написанная книга Ж.Адамара [1974], одного из известных французских математиков недавнего прошлого. Вот как резюмирует он результаты своего изыскания:
Следствием этого является, прежде всего, то, что, говоря строго, практически не существует чисто логических открытий. Вмешательство бессознательного необходимо, по крайней мере, для того, чтобы стать отправным пунктом логической работы (с. 106). Вот несколько конкретных описаний того, как были получены математические открытия [Адамар, 1974]:
Ж.Адамар пытался также оценить роль слов и других знаков в мышлении, в особенности в математическом мышлении. Вот что он пишет о своем личном опыте [1974]:
Интересен результат анкетного опроса математиков, проведенного Ж.Адамаром [1974]:
Вот высказывание А.Эйнштейна о роли слов в мышлении (цитируем опять по [Адамар, 1974]):
В то же время Ж.Адамар делает ссылку на книгу известного в свое время востоковеда Макса Мюллера [Muller, 1887], в которой дается исторический обзор мнений, высказанных об использовании слов в мышлении, и в которой автор утверждает, что никакая мысль невозможна без слов. Как оценить эту разноречивость суждений? Одно из возможных объяснений здесь такое – разные мыслители в процессе своего самоанализа достигали различного уровня глубины в осознании своего мышления. Во всяком случае, для нас важно здесь подчеркнуть то, что хотя бы часть из тех, кто задумывался о процессе творчества, достигала отчетливого представления о роли лишенного знаковой структуры континуального мышления. К высказываниям Ж.Адамара интересно присоединить и свидетельство Б.Рассела об открытии А.Эйнштейном теории относительности (цитируем по [Harman et al., 1963]):
По-видимому, подобным образом происходит творческое озарение и в других областях деятельности. Здесь мы приведем еще высказывания С.Криппнера [Krippner, 1963]:
Приведенные примеры показывают, что творческое озарение[4] связано с выходом за границы логического мышления. Но осмысливание новых идей происходит на логическом уровне. Сознание человека должно быть подготовлено к восприятию новых, все усложняющихся построений. Скажем, введение в математику «безумным гением» Кордано мнимых чисел – понятия достаточно абсурдного с позиций здравого смысла – это одна из тех вех математического мышления, которыми отмечается возникновение новых возможностей для более богатых логических построений. Мы должны признать, что рефлективное сознание человека оказывается способным зачерпнуть из континуального потока мысли только то, к осмысливанию чего оно оказывается подготовленным своими предшествующими логическими построениями. Но логическое осмысливание, если оно ведет к построению необычных конструктов, – это также некоторое озарение. Вот один из примеров: специальная теория относительности – это, в конце концов, не более чем некоторое совсем необычное, но логически четкое осмысливание преобразований Лоренца. Почему этого не мог сделать сам Лоренц, крупнейший физик своего времени, или такие математики, как Пуанкаре и Адамар, которые пытались понять физический смысл преобразований Лоренца? Вот что по этому поводу пишет сам Ж.Адамар [1974]:
Эйнштейну в смелости его построений помогло, видимо, то озарение, о котором мы говорили выше. Можно думать, что в творческом процессе, как и в нашей повседневной речевой деятельности, происходит постоянное взаимодействие между континуальной и дискретной составляющими нашего мышления. С помощью логики мы надеемся что-то непротиворечивым образом осмыслить из неисчерпаемого богатства континуальных потоков, но, осмысливая в рамках четких категорий, через кодирование смысла в дискретах, настолько сужаем смысл понятого, что потом снова возвращаемся к размытым континуальным представлениям. В этом особенность нашей культуры, в этом ее неразгаданная тайна. Понимание на внелогическом уровне. Всякий, кто занимался педагогической деятельностью, знает, как иногда огорчается кто-то из студентов: он, казалось бы, без запинки ответил на все вопросы, но не получил высокой отметки. Преподаватель, пытаясь объяснить низкую оценку, говорит студенту, что тот всё знает, но в то же время очень плохо понимает предмет. Формальное понимание записей, сделанных в знаковой системе, принятой в той или иной области знаний, может оказаться недостаточным для того глубокого осознания, которое необходимо для того, чтобы появилась возможность творческого, т.е. самостоятельного осмысливания предмета. Известный советский физик Л.И.Мандельштам любил говорить о понимании первого и второго рода. В собрании его трудов сохранилось следующее лаконическое высказывание по этому поводу [Мандельштам, 1950]:
И действительно, если ту сложную систему представлений, которая образует квантовую механику, обсуждать на жестком – строго логическом уровне, то немедленно возникают парадоксы. Обсуждение парадоксов приводит не к устрожению логических построений, а к переходу мышления на другой уровень, где парадоксы исчезают. Так возникает то неформальное понимание, о котором мы мало что можем сказать. И в то же время квантовая механика – это такая дисциплина, которая не поддается популярному изложению вне той специфической абстрактной символики, в которой она создана. Но сама символическая запись – это не знание о микромире, а только способ провоцирования этого знания в нашем сознании. Обсуждение парадоксов здесь оказывает то же действие, что и обдумывание коанов – парадоксальных высказываний в философии дзэн, о которой мы будем говорить ниже. Здесь можно высказать такое суждение. Хотя теоретические построения в нашей науке и записываются в абстрактно-символической форме, но сама символическая запись – это еще не запись самого знания, а лишь способ провоцирования этого знания в нашем сознании. Такие общеизвестные понятия, как, скажем, ψ-функция в квантовой механике или даже просто представление о поле в физике, о случайности в теории вероятностей или, наконец, о вирусе в биологии, не могут просто и однозначно быть истолкованы в наших непосредственных представлениях о внешнем мире. И, наверное, не нужно заботиться об уточнении смысла этих слов-символов. Надо просто учить студентов тому, как с помощью этих понятий можно строить логически осмысленные высказывания, посредством которых мы начинаем понимать мир на том глубинном уровне, где нам не нужны точные – атомарные значения слов. Медитация – прямое обращение к континуальным потокам сознания. Призыв к молчанию как средству познания себя и мира (Будда, Чжуан-цзы, Рабиндранат Тагор, Кришнамурти и даже Витгенштейн) – это непосредственное обращение к континуальному мышлению в его чистом виде. Техника медитации – умение управлять континуальными потоками сознания без обращения к языковым средствам. В результате управления свободно текущим, логически не упорядоченным потокам мысли придается четкая направленность. Западная мысль лишь совсем недавно обратилась к научному изучению необычных, измененных состояний сознания. К их числу относятся и те состояния сознания, которые возникают при созерцательных медитациях и молитвах молчания. Изучение измененных состояний сознания стало предметом клинических исследований. Опыт, накопленный мистиками различных религиозных направлений, стал предметом анализа психологов и психиатров. За короткое время накопилась огромная литература. В широко известном сборнике статей [Tart (ed.), 1963] приведена библиография в 1000 наименований. Медитацию можно рассматривать как деавтоматизацию привычных нам психических структур – медитирующий выходит за границы логически структурированного сознания. Возникает новое состояние сознания, при котором происходит слияние с объектом медитации, растворение в нем, потеря границы собственной личности. Возникает ощущение целостности. Дискретные символы языка оказываются недостаточными для выражения этого состояния сознания. В этом состоянии сознания нарушаются законы Аристотелевой логики; противоречия не вызывают больше удивления, нарушаются причинно-следственные упорядочивания явлений, изменяются представления о пространственно-временной структуре мира; парадоксальность переживаемого воспринимается как нечто естественное. Вот как А.Дейкман инструктировал лиц, привлеченных к экспериментам с медитациями (объектом медитации была голубая ваза) [Deikman, 1963]:
Дальше А.Дейкман обращает внимание на трудности, связанные с описанием опыта медитаций [Deikman, 1963]:
И все же вот описание впечатлений одной из участниц эксперимента [Deikman, 1963]:
На Второй школе по «современным документальным системам» (Паланга, сентябрь 1976 г.) мы совместно с О.А.Кузнецовым провели опыт коллективной медитации, в нем приняло участие около 100 человек. Темой медитации был «Документ будущего». Сначала участникам эксперимента была рассказана постановка задачи. Она звучала примерно так:
Но если документ читать новым – быстрым – способом, то теряется всякий смысл в стилистической отработанности текста, в безумно сложной системе орфографии и знаков препинания, над занудным изучением которых так много тратят времени школьники. Быстрое чтение подрывает основу нашей культуры – ее документальную систему, и, тем не менее, всем ясно, что время для него назрело, оно становится необходимостью. Рассказ велся в динамическом плане – в виде дискуссии между мною и О.А.Кузнецовым, это создавало остроту ситуации. Затем испытуемым было предложено попытаться выйти из привычного потока мыслей и постараться вообразить документ будущего. Предварительно создавалась обстановка, способствующая релаксации, – прослушивался с магнитофонной ленты успокаивающий текст, произнесенный профессионалом-гипнологом В.Е.Рожновым, в соответствующем музыкальном оформлении. Некоторые, правда, немногие из участников легко перешли в измененное состояние сознания. Их записи результатов эксперимента оказались необычайно интересными. Вот одна из них:
Мы видим, как состояние релаксации растормозило логически структурированное состояние сознания. Появилась возможность нетрадиционного решения. Панке и Ричардс, суммируя литературные данные, пытаются представить опыт мистического состояния сознания в следующих, связанных между собой девяти категориях [Panke et al., 1963]: 1. Целостность. Мы утверждаем, что опыт восприятия недифференцированной целостности есть отличительная черта мистического сознания. Такая целостность может быть как внутренней, так и внешней (с. 401).
2. Объективность и реальность. Этой второй категории присущи следующие взаимосвязанные элементы:
3. Трансцендентность пространства и времени. Эта категория связана, с одной стороны, с потерей индивидом обычной ориентации относительно того, где он находится в течение опыта в смысле обычного трехмерного восприятия своего окружения, а с другой стороны – с тем радикальным изменением восприятия перспективы, при котором он вдруг начинает ощущать себя вне времени, в вечности бесконечного, вне прошлого и будущего (с. 403). 4. Ощущение святости. Святость здесь понимается как нерациональный, интуитивный, приглушенный и пульсирующий отклик на вдохновляющие проявления реальности. Индивидуум воспринимает себя как особую ценность, могущую быть профанированной. Недифференцированной целостности мистического сознания свойственно чувство глубокого ощущения святости и неприкосновенности... (с. 404). 5. Глубоко ощущаемое позитивное настроение. Эта категория фокусируется на ощущениях радости, любви, благословенности и умиротворенности, присущих мистическому сознанию (с. 404). 6. Парадоксальность. Категория, отражающая способ, с помощью которого существенные аспекты мистического сознания воспринимаются как истинные, несмотря на то, что они нарушают законы Аристотелевой логики. Например, субъект утверждает, что он умер, перестал существовать, хотя с очевидностью продолжает существовать и даже пишет о своем опыте. Он может утверждать, что ощутил пустую целостность, которая в то же время содержит всю реальность (с. 405). 7. Невыразимость. Когда человек пытается кому-либо сообщить о своем мистическом сознании, он обычно жалуется на то, что символы языка, если и не вся его структура, недостаточны для описания или точного отражения такого опыта. Основанием для того, что опыт воспринимается как невыразимый в словах, является разочарование в языке, которое, в свою очередь, обусловливается парадоксальностью природы наблюдаемого феномена и его ни с чем не сравнимой уникальностью (с. 405). 8. Временность. Эта категория относится к протяженности мистического сознания во времени. Специальная и необычная форма сознания... длится где-то от нескольких секунд до нескольких часов и затем исчезает, возвращая человека к обычному повседневному сознанию. В категории временности... проявляется одно из существенных отличий мистического опыта от состояния психоза (с. 406). 9. Положительные изменения в отношении к себе и своему поведению. Лица, которые приобрели опыт в восьми выше обсуждавшихся категориях, постоянно сообщают также об изменении их отношения:
Сообщается о возросшей интеграции личности, включая обновленное ощущение личной ценности, сочетающееся с ослаблением обычного механизма защиты ЭГО... Возникает чувство того, что человек может обратиться к своим личным проблемам и уменьшить или устранить их, укрепляется вера в собственные потенциальные творческие возможности, по крайней мере, на субъективном уровне (с. 406). <…> [1] Функции распределения составлены по случайным выборкам, каждая объемом в 1000 слов. Подсчеты производила Г.А.Батулова. [2] Уже после того, как эта работа была закончена, мы познакомились со статьей С. М.Вишняковой [1976], также посвященной статистическому анализу многозначности слов в английском языке. В ее работе исследовался тезаурус Роже. [3] Напомним здесь приписываемое Анансагору и ставшее традиционным определение непрерывности как бесконечной делимости: «В малом не существует наименьшего, но всегда имеется еще меньшее. Ибо невозможно, чтобы существующее исчезло в результате деления» (цит. по [Панченко, 1975]). [4] С озарением мы сталкиваемся не только в творческом процессе, но и в нашей обыденной жизни. Одним из примеров этого может быть принятие решений. Известны попытки строго логического анализа процесса принятия решений. Были предложены математические, в том числе и вероятностные модели. Но ситуация чаще всего столь сложна, что в процессе принятия решения мы ограничиваемся тем, что задаем себе вопрос и ждем ответа как озарения. Отсюда и пословица: «Утро вечера мудренее». Назад в раздел |
||||
| © Ж.А. Налимова-Дрогалина, В.Я. Голованов, А.Г. Бурлука, ООО "БОС" | |||||


