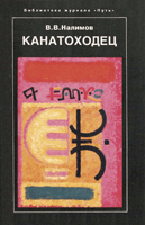Василий Васильевич
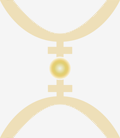 |
КАНАТОХОДЕЦ. Воспоминания.
Главы из книгиБиблиотека журнала «Путь» ПРЕДИСЛОВИЕ
Мои воспоминания написаны как летопись века. Летопись, преломленная через лично пережитое. Поэтому здесь отдельным, частным событиям уделено много внимания, а крупные затрагиваются лишь в той степени, в какой они касались лично осмысленного. Перед вами летопись не политического деятеля, а свободного мыслителя – жившего активно и участвовавшего в сопротивлении происходящему. Я касаюсь науки в той мере, в какой участвовал в ней сам. Касаюсь мистического анархизма – эзотерического движения, развернувшегося в России. В течение десяти лет я был связан с этим движением, хотя и стоял на первой его ступени. Касаюсь большевистского террора, поскольку сам провел около 18 лет в тюрьмах, лагерях, «вечной ссылке» или в условиях ограниченного паспортного режима. Касаюсь и моих зарубежных впечатлений – этот мир открылся для меня лишь в конце 80-х годов. Судьба меня свела со многими яркими людьми нашего времени. Мои воспоминания можно рассматривать как фрагменты из истории русской интеллигенции XX века. Конечно, многое из того, что здесь лишь затронуто, в ближайшее время будет подлежать детальному исследованию, История последних десятилетий оставила нам множество загадок. Заглавие этой книги могло бы прозвучать и так: L'epave (Обломок судна после кораблекрушения), но по – русски это слишком громоздко. Автор Посвящается ПРОЛОГ
ПРЕДДВЕРИЕ[1]Фрагменты семейной хроники в дни революционного террора, когда новыеСмыслы жаждали крови
Когда на семантическом поле возникает ураган, когда порождаются смерчи, насыщающие смыслы безудержной энергией, тогда начинается революция. Революция – это порыв народной страсти, безудержной, раскованной, жестокой. Революция – это жажда нового, еще никогда не бывалого. В революции романтика разрушения: вера в то, что дух разрушающий (как это полагал М.Бакунин) становится духом созидающим. Но разрушению, даже разрушению ветхого, всегда есть сопротивление. И смыслы – смыслы нового, ожесточаясь, начали жаждать крови. Кровью обагрялся и белый венчик из роз. И было еще раньше сказано:
Страсть всегда мимолетна. На смену ей приходит унылое похмелье. Смыслы, стараясь устоять, костенеют в своей закрытости. Становятся идеологией. Обращаясь к силе, они стали создавать удручающую, еще никогда не виданную власть, обернувшуюся неизгладимой национальной трагедией. Ветер судьбы заставил меня с детства соприкоснуться с трагичностью, порожденной осатанелыми смыслами. Не обошла она и никого из близких мне. Моя мать – Надежда Ивановна – была врачом-хирургом. Во время гражданской войны ее мобилизовали в Красную Армию для работы в сыпнотифозном госпитале, где она и погибла от этой ужасной болезни. И ее смерть в Красной Армии не спасла ее отца – в прошлом энергичного предпринимателя – от лишения избирательных прав и высылки из родного дома. Ее брат, а впоследствии и сестра не выдержали унижения и покончили с жизнью. Сейчас, перелистывая старые семейные фотографии, я вижу, что моя мать всегда выглядела очень печальной. Было ли это предчувствие того, что она никогда не увидит своих детей взрослыми? Помню, как, будучи мальчиком, я как-то пошел с ней в госпиталь (еще в дни Первой мировой войны), где у нее должен был быть послеоперационный вечерний осмотр. Я положил почему-то свою руку в карман ее пальто. Она взяла мою руку и сказала: «Ну вот, ты скоро уже будешь совсем большой, и я смогу опереться на твою руку». Но этому не дано было свершиться. Мой отец, Василий Петрович, – профессор, вышедший из глухой северной деревни, умер в тюрьме в 1939 году, после второго ареста. Моя сестра, Надежда, во время Второй мировой войны была женой английского офицера – сотрудника Королевской военной миссии. После окончания войны муж ее должен был вернуться на родину. Она, естественно, была отправлена в исправительно-трудовой лагерь. После хрущевской реабилитации в Москву вернулся больной человек с надорванной психикой. Со всей присущей ей страстностью она стремилась в Англию, но напрасно. Муж-англичанин отрекся от нее, сидевшей в русском лагере. Примечательна своей парадоксальностью история семьи моей мачехи – Ольги Федоровны. Здесь со всей отчетливостью проявляется вся нелепость семейной сопряженности противостоящих друг другу смыслов. Ее родителями были деревенские учителя, одновременно занимавшиеся сельским хозяйством с использованием рабочей силы (в революционной терминологии попросту – кулаки), но как иначе в предреволюционное время можно было бы им дать не только среднее, но и высшее образование семерым своим детям? Один из ее братьев в дни гражданской войны был белым офицером, но судьба почему-то охранила его. Другой – во время Первой мировой войны, будучи связанным (еще в школьные годы) с партией эсеров, оказался под угрозой повешения. Бежал за границу – тогда это было просто. После революции вернулся, но ему не очень понравились новые порядки, и он снова бежал: нашелся польский контрабандист, который перевез его в чемодане через границу. Был арестован в Польше как русский шпион. Потом оказался в Льеже, где получил диплом горного инженера. Работал в Бельгийском Конго. Оттуда приходили заманчивые открытки: коттедж среди пальм, негры – слуги в белых одеждах. Но душа бывшего революционера не могла смириться с колониальными порядками – он вмешался в недозволенное. Жену отравили, он оказался в Бельгии, заключенным в католический монастырь (фирма боялась разоблачений), где получил прекрасную подготовку в мистических учениях. Потом опять в России – его деятельность по открытию крупных месторождений цветных металлов в Казахстане чередуется с легким отдыхом в психиатрических лечебницах: его идеей-фикс было спасение негров в Америке. Но вот младшая сестра из этой «вполне обыкновенной» семьи сразу после окончания гимназии оказалась следователем в ЧК в Казани. Позднее она окончила химфак МГУ и работала в ЦК партии. Но недолго. Внутренне она была необратимо надорвана. Говорили, что тогда был такой порядок: дежурный следователь должен был сам расстреливать тех, чей черед приходился на этот день, или – по другой версии – тех, чье дело он вел. Но как бы то ни было, нам – тогда еще подросткам – категорически было запрещено ее расспрашивать о чем-нибудь. А очень хотелось. И наконец, муж одной из сестер моей мачехи – Иосиф Моисеевич Фейгель (позднее просто Павлов). Он был сначала фельдшером в том селе, откуда происходила семья мачехи. Потом – председателем губернского ЧК в Киеве. (Легко представить себе, что делалось в этом городе, который был оплотом не только утонченной интеллигенции, но и русского черносотенства.) Через некоторое время Ф.Дзержинский предлагает ему возглавить московскую ЧК. Он отказывается и поступает учиться в Институт красной профессуры. (В этом Институте, кажется, почти все были поклонниками левого коммунизма Л.Троцкого, и меня, еще подростка, он пытался вдохновить этими идеями, но напрасно, мне и тогда это казалось достаточно нелепым.). Запомнился мне один эмоционально напряженный разговор моего отца с этим родственником:
Предсказанное исполнилось: Фейгель был арестован раньше и погиб в лагере. Не спас и боевой орден, данный за кровавое усмирение мятежного Кронштадта. Его единственный сын погиб на войне. Он защищал не только родину, но и тех, кто так расправился с его отцом за верную службу. Теперь мне хочется вспомнить своего крестного отца – Д.Т.Яновича. Я часто навещал его: у него была прекрасная библиотека книг для подростков. Его квартира (в доме с памятью о Гоголе) была, как музей, – он был, как и мой отец, этнографом. Свой род он вел от знати Запорожской Сечи – украинской вольницы. Дома еще хранилось и кресло прабабушки, и боевое седло прадедушки. Страстью Яновича были анекдоты – не только непристойные, но и политические. Здесь он был непревзойденным мастером. И жизнь свою, естественно, закончил в лагере. Анекдоты, в той форме и той напряженности, которую они тогда обрели, – это, кажется, было чисто русское явление. Это – издевка из-за угла. Это – последний посильный протест. Протест опасный: за острое слово приходилось платить жизнью. Но молчать иным было невмоготу. Но вернемся к семейной хронике. Моя первая жена – Ирина Владимировна Усова. Ее отец – дворянин и небогатый помещик, владевший имением в Курской губернии. Он получил агрономическое образование в Германии, и его страстные усилия были направлены на то, чтобы показать, как здесь, на русском черноземе, можно вести разумное, технически оснащенное хозяйствование. Не мог он перенести разрушения всего того, что считал главным делом своей жизни, и умер от сердечного приступа, бежав из своего родного дома. Его сын Алеша – еще только начинавший самостоятельную жизнь человек – был расстрелян после того, как армия Колчака уже сложила оружие. Их – офицеров – расстреляли без суда[2]: об этом с глубокой скорбью написала в письме сибирская крестьянка – хозяйка того дома, где Алеша жил, начав работать сельским учителем. Позднее, в 1947 году, была арестована и его сестра Татьяна по делу друга дома – поэта Даниила Андреева (это уже было большое «дело» – по нему было арестовано 50, а может быть, и 100 человек; подробнее к этому «делу» я вернусь позднее). Каким-то удивительным образом удалось охранить от ареста другую сестру – мою тогдашнюю жену Ирину. Их мать – Мария Васильевна – не могла пережить ареста любимой дочери и близкого ей по духу, очаровавшего ее поэта. Быть другом поэта, любя поэзию, – поэта милостью Божией, – это удивительное счастье. И все рухнуло, обернувшись кошмаром для всех. (В свое время М.В. закончила Институт благородных девиц, свободно владела немецким и французским языками. В 20-е годы окончила курсы переводчиков под руководством В.Брюсова. Профессионально переводила таких поэтов, как Рильке, Верлен, Бодлер. Потом кто-то заподозрил что-то. Ей дали для перевода антирелигиозное стихотворение. Она отказалась. На этом закончилась ее переводческая деятельность. А она жила поэзией. Могла часами обсуждать перевод какой-то одной строчки – предлагая все новые и новые варианты, проводя нескончаемые сравнения с переводами других.) Был истреблен и этот крохотный островок, остававшийся еще от дворянского прошлого России. Вторая моя жена – Жанна Дрогалина. Ее отец был арестован в конце 30-х или в начале 40-х годов, и о нем больше ничего не известно. Мать Жанны и ее отчим – суровые партийцы. Дома никто и никогда не говорил о ее отце. Она услышала о нем впервые во время одной из бесед в отделе кадров. Ей был задан вопрос: «А знаете ли вы, что у вас не родной отец?» Она не знала. А где друзья ранних лет моей юности? Если их или их семьи не затянула трясина репрессий, то они погибли во Второй мировой войне с Германией, охваченной своими демоническими силами. Здесь хочется мне вспомнить школьного друга Петю Лапшина. Он был обаятелен своей открытостью, отзывчивостью – готовностью помогать всем. Мы, его друзья, постоянно толпились в его и без того тесной квартире в одном из арбатских переулков. Постоянно ездили вместе на загородные прогулки. Нас объединяло и то, что мы были молоды, и то, что мы все были интеллигентны и понимали, в той или иной степени, всю нелепость и трагичность происходящего. И вот текущие изъятия: у Дины Кузьминой, родственницы Пети, вдруг арестовывают отца – преподавателя одного из вузов; позднее у Гали Чернушевич так же и столь же неожиданно арестовывают отца – он был главным металлургом одного из крупных московских заводов и буквально дни и ночи проводил на работе; здесь одна деталь: в ночь обыска сбежал Галин муж, оставив беременную жену без средств к существованию; Федя Виттов – его не оставляли в покое соответствующие органы: он происходил из когда-то знатных литовских дворян и был не без греха: умел и страстно любил рассказывать анекдоты – естественно, положенные ему три года он получил; и как-то совсем не надолго среди нас появилась Катя (ее фамилию я не могу вспомнить) – у нее был голос удивительного тембра, ее готовили в актрисы на большой сцене, голос придавал ей особое обаяние, и это сгубило ее: она не ответила должным образом на чьи-то притязания и исчезла. А сам Петя во время войны отказался от брони (по работе), пошел добровольцем в армию и сразу же был убит у своего пулемета. Теперь другое воспоминание: математическое отделение физико-математического факультета Московского университета имени Покровского, 1930 год. В один сумрачный день шепот пробежал среди нас, студентов: арестован профессор Дмитрий Федорович Егоров. Он был основателем московской математической школы. Мы слушали его лекции, учились по его учебникам. В своих общечеловеческих взглядах он, конечно, был старомоден. К тому же ранее исполнял обязанности старосты университетской церкви. А во время ареста был уже совсем старый и больной человек – в тюрьме скоро скончался. И опять хочется задать все тот же вопрос: кому и зачем была нужна его смерть? А где мои духовные учителя, чьи имена я чту и чье дело я пытаюсь продолжать в своих работах философской направленности? Я узнал только, что они были посмертно реабилитированы много раньше, чем я. Тюремные дела тоже полны парадоксов. А мои скитанья: арест в 26 лет. Весной 1937 года приговор Особого совещания (без суда): 5 лет исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную деятельность. Репрессия в разных своих проявлениях растянулась на 18 лет. В 1954 году по амнистии с меня снимается судимость. Снимается потому, что у меня в приговоре было всего-то только 5 лет! В 1960 году, наконец, реабилитация. Но и по сей день я подчас чувствую за собой плетущуюся тень с кличкой «враг народа»[3]. Со мною вместе были арестованы и многие другие – два моих, еще школьных, товарища: Юра Проферансов погиб в лагере, Ион Шаревский был расстрелян. А о «Деле» в целом я практически долго ничего не знал. В плане духовном, видимо, все погибло. Иногда мне кажется, что я только один и продолжаю в своих работах ту, начавшуюся тогда, новую для России нить философского осмысления мира с синтетических позиций, готовых впитать в себя все богатство мысли как Запада, так и Востока, не чуждаясь ни многообразия религиозных представлений, ни научных построений, ни философских изысканий. Не нужно думать, что трагичность сгущалась только вокруг отдельных личностей и их окружения. Она была повсеместной. С начала 30-х годов она стала эпидемией, захватившей в той или иной мере все слои общества. Наверное, эту эпидемию можно было бы назвать робеспьеровской. Как и всякая эпидемия, она реализовывалась все же избирательно, захватывая, прежде всего, людей выдающихся, и особенно талантливых. В своих философски ориентированных работах я иногда обращаюсь к поэтам нашей страны недавнего прошлого. Вот как обернулась их судьба: Александр Блок – принявший русскую революцию и воспевший ее, – умирает, находясь в тяжелом нервном расстройстве, в голодном Петрограде; Николай Гумилев расстрелян в 1921 году (позднее в лагере оказывается его сын – историк Лев Гумилев[4]); Сергей Есенин – повесился; Марина Цветаева после нескончаемых унижений также вешается; Владимир Маяковский – стреляется; Николай Заболоцкий отбывает свой срок в лагере; Максимилиан Волошин умер своей смертью, но в начале 20-х годов в буйствующем Крыму он читал свое имя в списке приговоренных[5]; Даниил Андреев (я о нем упоминал выше) выходит из Владимирской тюрьмы в середине 50-х годов уже совсем больным и умирает в 1959 году; Александр Коваленский (родственник А.Блока) – выдающийся писатель и поэт, чьи произведения, кажется, безвозвратно погибли, оставшись мало кому известными, – был осужден по делу Андреева, также вышел из тюрьмы больным и вскоре умер; Осип Мандельштам – величайший мастер русского слова – умер в одном из лагерей; Александр Введенский – поэт-философ, удивительно осмысливший проблему времени, умер, будучи арестованным – у нас он до сих пор известен только как детский поэт... Похоронный список поэтов здесь, конечно, неполон. Но и он устрашает. Истребляющая сила была неумолима и изобретательна. Ее задачей было – порвать связь поколений, освободить дорогу новому, никак не скованному прошлым. И это, кажется, удалось... * * *Да, все это не более чем суровая, жестокая расплата за попытку обрести новые смыслы не личностно, а в целом для народа, для всего народа – не подготовленного к тому, чтобы вынести бремя открывшейся ему свободы. Бремя оказалось слишком тяжелым, неуютным, невыносимым. Свобода обернулась разгулом, из которого стала выкристаллизовываться несвобода, еще более суровая, чем это было раньше. Новая идеология всегда страшнее, чем старая, одряхлевшая. Но все же были периоды междуцарствия, когда свободу не удавалось сдерживать. Вспомним Февральскую революцию. Русская Бастилия – Шлиссельбургская каторжная тюрьма пала 28 февраля без единого выстрела[6]. Можно вспомнить и 20-е годы. Кончилась гражданская война, начался НЭП, и люди вздохнули с надеждой. У многих тогда еще сохранялась открытость к свободе. Была вера – удивительная вера в то, что социальную справедливость можно осуществить здесь и сейчас. Казалось, что в жизни делается что-то совершенно невиданное, неслыханное. Делается то лучшее, о чем могло мечтать человечество. Шел напряженный поиск нового во всем – в философии, в научной и религиозной мысли, в искусстве – особенно в театре, в школе – даже в обычной средней школе, в сектантстве – народном и изысканно эзотерическом, переживавшем пору своего расцвета[7]. Соответственно росло разногласие. Разномыслию уже тогда стала противостоять государственно узаконенная устремленность к всеохватывающему единомыслию. Сначала казалось, что это противостояние происходит где-то на периферии – в точках крайней напряженности. Но потом стало ясно, что оно становитря повсеместным, затрагивая каждого из нас. Каждого из тех, кто не мог следовать беспрекословно за причудливым ходом раскрытия новой идеологии. В школьные годы у меня был друг – Игорь Тарле. Его отец, известный меньшевик, провел все те 20-е годы то в политизоляторах, то в ссылках. Только раз я его видел где-то между двумя ссылками – он оказался проездом в Москве. Вспоминаю Лёлю Гендельман. На исходе школьных лет познакомил меня с ней Ион Шаревский. Она была немного старше нас, но мы быстро подружились. Одно время она была непременным участником наших умных философских бесед, они и проходили чаще всего у нее дома: она одна из всех нас имела собственную комнату. Ее родителей я никогда не видел – ее отец был членом ЦК партии правых эсеров и всегда находился в ссылке. Увлекательные беседы, правда, продолжались недолго: удручающей показалась мне ее страстная приверженность к гегелиано-марксистским построениям. Позднее я узнал, что она была арестована и получила три года политизолятора за участие в каком-то меньшевистски ориентированном кружке[8]. Я был знаком с семьей профессора Александра Петровича Нечаева – известного в то время психолога, в прошлом члена партии кадетов. Одно время я учился в Опытно-показательной школе, где он был директором. Позднее, будучи человеком непреклонных убеждений, он высылается из Москвы. Был выслан и его старший сын Модест – востоковед и теософ. Особенно примечательный случай произошел в 26-м или, может быть, в 27-м году. В первый день Пасхи (тогда это еще был торжественный, всенародный праздник с повсеместным перезвоном колоколов) я захожу под вечер к своему школьному товарищу Сергею Знаменскому (позднее он стал архитектором и погиб на войне в саперном батальоне) и узнаю, что утром пропал его брат, которому тогда было лет 16 или чуть больше. Пропал, и все. Его искали, всюду наводили справки, но тщетно. Недели через две он появляется как ни в чем не бывало. Оказывается: утром в день исчезновения пошел к храму Христа Спасителя. Там на паперти увидел оживленную, спорящую толпу. То были сектанты разного толка. Послушав, понял, что уровень дискуссии соответствует степени его развития, и активно вмешался в обсуждение. Его, естественно, арестовали за недозволенное своемыслие и потом две недели выясняли – не является ли он чьим-нибудь тайным эмиссаром. Не найдя опасных истоков ереси, выпустили. Без последствий: тогда еще была свобода, хоть какая-то! Но так было в 20-е годы. К 30-м годам тучи стали сгущаться – аресты подходили вплотную чуть ли не к каждому дому. В 1933 году был в первый раз арестован и мой отец, но тогда это еще удалось преодолеть. Мы знали, что происходит в деревне... Но в городе под нависшими тучами продолжала идти обычная жизнь. Люди продолжали работать, как всегда. И вот что удивительно: люди работали напряженно, с подъемом, часто даже с энтузиазмом. Так, во всяком случае, было в научных учреждениях, где приходилось работать и мне, так было и на заводах, с которыми мы были связаны. Так работали не потому, что верили в светлое будущее – в него, кажется, уже почти никто не верил. Почти никто ничего не понимал. Ведь если эпидемия, то что же понимать? Работали потому, что где-то в глубинах сознания сохраняли потенциал, заложенный еще в 20-е годы. Сейчас, сквозь туман прошедших лет, 20-е годы представляются золотым веком русской Революции. Но и в нем была червоточинка. Разрастающаяся, расширяющаяся червоточинка. * * *Трудно писать воспоминания о прожитом. Опять гарью застилается душа. Пожар. Горели не леса и села, а человеческие судьбы. Горела судьба страны. Многое выгорело совсем. Начисто. Впервые в истории человечества успешно завершается революция. Великая революция – этого нельзя не признать. Революция, обернувшаяся кровавой мистерией, – этого нельзя не видеть. Революция, подготовленная всем прошлым Европейской истории. Старая культура оказалась полностью истребленной во имя создания новой. Смыслы, долго тлевшие в подполье, наконец, вышли на поверхность мировой истории и показали, на что они способны. Эксперимент, гигантский социальный эксперимент, наверное, уже можно было бы считать завершенным. Можно было бы подводить итоги. Но нет – он продолжается. Продолжается потому, что не созрели новые смыслы, способные увлечь сразу многих[9] Я был не только свидетелем, но и участником свершавшихся событий, пытавшимся всегда оставаться самим собой, не подчиняясь мрачной идеологии насильственного пути к всеобщему, исторически (как нас в этом уверяли) предначертанному нам счастью. Обо всем этом я хочу рассказать в своих горестных воспоминаниях. Рассказывая, я буду комментировать, выступая не как ученый-историк (архивы мне лишь частично доступны), а как участник событий. Это не более чем мемуары размышляющего участника, страстно желавшего понять природу человека и его предназначение. А смыслы – суровые смыслы насильственного преображения человечества, притаившись, все еще жаждут крови. Сейчас многие думающие ищут виновных, подлежащих наказанию. А их нет. Не было зловредного заговора (во всяком случае, в ранние 20-е годы его, по-видимому, никто не ощущал), а была устремленность в новое, неизвестное. Все было, как было, и было так, как было подготовлено всей историей страны. Ныне, не забыв еще старых распрей, мы быстро приближаемся к новой – теперь уже не национальной, а планетарной катастрофе. Кто ее готовит? Наверное, все те, кто, будучи погруженным в повседневность своих забот, не ощущает ответственности за происходящее, не проявляет Заботы. Быть может, и впрямь над нами, духовными потомками древнего Средиземноморья, тяготеет Рок – судьбы суровое звучание. Мы не сумели воспринять то, что нам было дано. Входя в храм, особенно в сумрачный – католический, я слышу горестные слова непроизнесенной молитвы: о, Боже, дай нам силу преодолеть самих себя на предстоящем нам пути! Мы слышим набат, различаем в нем звучание слов:
Литература1. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Том V. Шлиссельбургская каторжная тюрьма и Орловский каторжный централ 1907–1917. М.: Юридическая литература, 1963, 340 с. Часть IIПОИСК ПУТИГлава VII
В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ. ВСТРЕЧА С РАДИКАЛЬНЫМ ИНАКОМЫСЛИЕМ
1. ВведениеОсобенно остро в 20-е годы стоял вопрос о власти. Опасность обращения к ней как средству построения нового, идеального общества была очевидна для многих. Шли острые дискуссии – тогда еще оставались на свободе толстовцы, теософы, антропософы и многие сектанты разных толков. Ранее я уже говорил о том, что еще в школьные годы соприкоснулся с этой темой и понял всю ее серьезность. Помню семинары, проходившие у толстовцев в годовщину столетия со дня рождения Л.Толстого. Помню Музей П.Кропоткина – кажется, единственное тогда негосударственное учреждение в Москве. В достаточно просторном подвальном помещении этого музея отмечался первомайский праздник, традиционно считавшийся праздником, введенным анархистами. Там среди ветеранов революции я видел М.П.Сажина, сподвижника М.Бакунина, участника Парижской Коммуны и революции 1905–1907 гг., каторжанина. (Мне однажды даже пришлось навестить его дома – связь поколений сохранялась.) В другие дни читались лекции на философские темы, свободные от идеологического давления. Музей Кропоткина во второй половине 20-х годов был, чуть ли, не единственным в Москве незаконспирированным островком свободной мысли. Именно там я впервые почувствовал ее дыхание. Эта привязанность к свободной мысли сохранилась у меня на всю жизнь. Отметим здесь, что в двадцатые годы, как отголосок революции, еще сохранялась терпимость по отношению к анархистам. Анархизм в его теоретическом проявлении не считался контрреволюционным движением. В известной статье главы ВЧК Ф.Э.Дзержинского «К разоружению анархистов», опубликованной в начале революции, говорилось [Вайткунас, 1977]:
Анархо-коммунисты, связанные с традициями П.А.Кропоткина и А.А.Карелина, как, впрочем, и анархисты многих других направлений (анархизма), считались мягкими революционерами. Смерть и похороны Кропоткина отозвались траурным эхом по всей стране. Н.М.Пирумова пишет [Пирумова, 1972]:
Среди венков, возложенных на могилу Кропоткина, были венки от РКП(б) и Совета Народных Комиссаров (с. 218). На похороны под честное слово были выпущены из Бутырской тюрьмы анархисты для прощания со своим учителем. Лишь в 30-е годы преступным стало считаться само учение. Предсказание анархистов оправдалось: государство, идеологически перенасыщенное, обратилось в самодовлеющее Чудовище, погубившее страну. В плане историческом я вижу смысл русского мирного анархизма в предотвращении попытки насильственного построения коммунизма. Шел поиск других, компромиссных решений. Основная идея анархизма состоит в том, что человеку изначально свойственна устремленность к свободе. Никакие цели, как бы заманчиво, а иногда и величественно они ни формулировались, не могут быть осуществляемы в ущерб свободе. Эта мысль не была воспринята – в противовес ей был поставлен эксперимент сурового насильственного воздействия в масштабах всей страны. Чем он обернулся, теперь многие хорошо осознали. Но ведь можно было бы этот трагический эксперимент и не ставить, если бы природа человека была понята своевременно. В анархическом движении, крайне неоднородном по своим исходным позициям, особое место занял мистический анархизм, смыкавшийся в первые годы с анархическим коммунизмом. Почему анархизм оказался связанным с мистикой? Ответ на этот вопрос звучит однозначно. Анархизм из чисто политического движения должен был превратиться в движение философское с определенной социальной и морально-этической окрашенностью. Это был вызов, брошенный марксизму, православию и всей суровой научной парадигме тогдашних дней. Речь шла о создании целостного – всеохватывающего мировоззрения, основанного на свободной, идеологически не засоренной мысли. Анархизм – это всеобъемлющая свобода. Она должна охватить все проявления культуры, в том числе и науку[10], остающуюся в плане методологии жестко идеологизированной. Во главе анархо-мистического движения стояли Аполлон Андреевич Карелин и один из его учеников Алексей Александрович Солонович, математик и философ. (Подробнее об этом движении – в гл. XV.) Сейчас я приведу некоторые цитаты из сохранившихся записей лекций А.А.Солоновича. Это уместно здесь сделать. Так немного приоткроется та атмосфера, в которой жил я и мои товарищи. Нужно обратить внимание на то, что в те годы многие, теперь хорошо известные нам научные идеи находились лишь в зачаточном состоянии. Но, правда, многое и предчувствовалось, предвиделось. Я здесь даю цитаты, а не делаю пересказа, прежде всего, потому, что мне хочется, чтобы читатель уловил «голос» Солоновича, его аргументацию, его манеру изложения. Это не тексты, подготовленные к печати, а почти всегда – записи лекций. К тому же пересказывать его было бы крайне трудно и потому, что он не формулирует исходных аксиом и не строит отчетливой логической системы. Он ограничивается тем, что обсуждает некоторые существенные для него темы. Изложение носит явно выраженный повествовательный характер. Автор часто опирается на опыт мистических переживаний. Строго говоря, это не философия, а философствование. В моем распоряжении было только 14 текстов, записанных от руки в школьных тетрадях. Судя по почерку, записи сделаны одним и тем же человеком, возможно, под диктовку. Указано, что часть текстов относится ко второй половине 20-х годов. Большинство же текстов не датировано даже приближенно. Можно думать, что часть из них записана еще в политизоляторе[11] или позднее, в каргасокской ссылке. Материалы получены от вдовы сына А.А.Солоновича – Юлии Владимировны Орловой. Сын Солоновича Сергей также был участником анархо-мистического движения. 2. Выдержки из тетрадей А.А. Солоновича[12](Порядок расположения выдержек произволен, поскольку тетради не нумерованы) 1. Конспекты:
2. Объяснение и познание.
3. Конспект по философии истории и научному методу.
4. Очерк по истории марксизма.
5. Вселенная как совокупность миров.
6. Фазисы эволюции в онто- и филогенезисе. Часть I.
7. Фазисы эволюции в онто- и филогенезисе. Часть II
8. Вселенная как совокупность Миров. Мир форм (мир образов).
9. Всленная как совокупность Миров.
10. Переход от объяснения к познанию.
11. Фило-София и София (как фазисы человеческого развития).
12. Кант и его философия. (Здесь мы ограничимся лишь тем, что приведем те высказывания Канта, в формулировке Солоновича, которые оказались, как это мне представляется, наиболее существенными для автора. Наша задача здесь сводится к тому, чтобы представить себе, как Солонович понимал Канта.)
13. Атомизм[33].
14. Папдемонизм.
3. Моя близость к идеям Солоновича и мои расхождения с нимИтак, в годы юности мой жизненный путь освещался тремя прожекторами. Одним из них была философия Солоновича, звучащая примерно так, как она описана выше, другим – традиционная философия и, наконец, третьим – наука тех дней[34]. И не я один в окружении Солоновича был настроен так многогранно. Сознание человека многомерно – корреляционно связанными могут быть разные позиции. Многомерность сознания – это возможное критицизма, выход за пределы какой-нибудь одной парадигмы, интеллектуальная свобода активной личности. Забегая вперед, отмечу, что позднее – в те дни, когда для меня открылась возможность заниматься философскими проблемами, я отчетливо понял, что проблема сознания здесь является центральной. Одновременно мне стало ясно, что в нашей культуре эта тема остается неразработанной. И, более того, стало очевидно, что в рамках существующей парадигмы она и не может быть осмыслена. Солонович оценил первостепенную важность этой проблемы еще в те далеко ушедшие дни (см. тетрадь № 12), но закрыл путь к ее разработке, заявив, что сознание не мыслится, а только переживается (см. там же). Я занял здесь противоположную позицию и попытался предложить математически задаваемую модель сознания. Появилась книга [Налимов, 1989]. Я обратил внимание на смыслы, организующие наше сознание. Смыслы можно обсуждать. Смыслы нужно обсуждать. Смыслы динамичны. Если смыслы не осмысливать, то они начинают меркнуть. Книга написана необычно. Я опираюсь почти на все многообразие нашей культуры: на посткантианскую философию XX века (что, естественно, не мог оценить Солонович), на мистический опыт, на науку – обращаясь к таким ее разделам, как математика и теоретическая физика, на не признанную наукой Трансперсональную психологию. Существенным здесь является введение новой категории – спонтанности, представление о размытости смыслов, использование неаристотелевой – вероятностной – логики. Математическая модель строится аксиоматически, хотя ничего не доказывается. Основная аксиома об изначальном существовании элементарных смыслов, идущая еще от Платона, совпадает с представлением Солоновича о самостоятельном (не зависимом от человека) существовании семантического начала. Если пользоваться терминологией Солоновича, то можно сказать, что мой подход выходит за границы «психизма». Это уже шаг в сторону «пневмагизма». Именно в силу этих обстоятельств книгу было непросто опубликовать в нашей стране и до сих пор не удалось опубликовать на Западе. Парадигма «психизма» стоит на страже. В последнее время я пытался развивать представление о вездесущности сознания, близкое к концепции Солоновича о «пандемонизме» (тетрадь № 14). Близки мне и его концепция о множественности миров во Вселенной (см. тетрадь № 5), и признаваемое им апофатическое представление о Боге. И наконец, мой критицизм по отношению к науке в какой-то степени близок позиции Солоновича, хотя, конечно, теперь эту тему удается существенно расширить[35]. Итак, вся моя философски ориентированная творческая деятельность находилась в той или иной степени под влиянием Солоновича. Я даже часто не осознавал этого влияния, но оно было во мне. И в то же время во многом и очень важном я ушел далеко от него, о чем свидетельствуют и сделанные мною примечания к приведенным выше тетрадям Солоновича, и мои философские публикации. Частично они приведены в библиографии к этой главе, полностью – в Приложении II к этой работе. Попытаемся еще раз коротко сформулировать как близость, так и расхождение с Солоновичем. Хотя это скорее не расхождение, а отличие, естественно возникающее во времени. Близость. Понимание фундаментальности идеи ненасилия: роль творчества; критика нашей культуры в целом; критика науки при одновременном признании ее роли; противопоставление континуального дискретному в самом мироздании; несводимость смыслов к жесткому их определению; представление об изначальной потенциальности, раскрывающейся в творчестве; и, может быть, самое главное – представление о множественности миров различной степени духовности и о наших нескончаемых странствиях в мирах и веках; и последнее: духовная потребность во внутреннем росте – как индивидуальном, так и социальном. Отличие. Непризнание Солоновичем развития посткантианской философии. И здесь парадокс: свою философскую систему я стал развивать, исходя из позиций Солоновича. И далее мое мышление, в отличие от мышления Солоновича, носит вероятностный характер. У меня это профессионально: многие годы я занимался практическими применениями математической статистики. И наконец, последнее – в своих построениях я опирался на современное состояние науки, обретающее широкое философское звучание, и на философские разработки последних десятилетий (экзистенциализм, философскую герменевтику и проч.), так же как, впрочем, и на работы конца прошлого века (особенно Ницше). * * *Закончить эту главу мне хочется выдержками из ранней книги А.А.Солоновича [Солонович, 1914], написанной еще до встречи с А.А.Карелиным и посвященной А.О.Солонович. Получить ее было непросто, так как она в разряде «редких книг». Она пришла ко мне, когда работа над воспоминаниями уже была закончена. Листая ее, я вновь ощутил живую энергию Солоновича, хранящуюся в страницах этой книги, напитанной его духовным пафосом. Здесь и свободный полет мысли, и романтизм, и поэтичность, и устремленность в неведомое, и страстный поиск.
Литература1. Белый А. Материал к биографии (интимный). В сб.: Минувшее. Андрей Белый и Антропософия. Публ. Д. Мальмстада. М.: Феникс, 1992, т. 6, с. 337 – 450; т. 8 с. 409 – 472. Т. 9, с 409 – 488. 2. Ваиткунас П. Ф.Э. Дзержинкий. М.: Мысль, 1977, 103 с. 3. Налимов В.В. Непрерывность против дискретности и языке и мышлении. Тбилиси: Тбилисский университет, 1978, 84 с. 4. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. Издание второе, расширенное М.:Наука, 1979 303 с. Польское издание: Probabilistyczny Model Języka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976,336$ издание в США: In the Labyrinths of Language: A Ma thematicians Journey[36]. Philadelphia: ISI Press, 1981, 246 p. 5. Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М.: Прометей, 1989, 287 с. 6. Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М.: Прогресс, 1993, 261 + 17 с. 7. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Московское книгоиздательство, 1910, 362 с. 8. Пирумова Н. М. Петр Алексеевич Кропоткин. М.: Наука, 1972, 223 с. 9. Свенцицкая И.С. и Трофимова М.К. Апокрифы древних христиан. Исследование тексты, комментарии. М.: Мысль, 1989, 336 с. 10. Солонович А.А. Скитания духа. М.: книгоиздательство «Сфинкс», 1914. 11. Фейерабенд П. Против методологического принуждения, с 125 – 466, в кн.: Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986, 544 с. (Feyerabend, Р.К. Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge. London. 1975). 12. Koslowski P. (Ed.). Gnosis und Mystik in der Geschichtc der Philosophic. Zürich: Artemis Verlag, 1988, 408 S. 13. MacGregor G. Gnosis. A Renaissance in Christian Thought. Whealton, Illinois: The Theosophical Publishing House 1979, 223 p. [1] Опубликовано под названием «Канатоходец» в журнале Путь, 1992, № 1, с. 242-253. [2] Позднее, в 30-е годы, в камерах Бутырской тюрьмы, провожая уходящих в неведомое, пели два гимна: «Гимн соловчан» и романс Вертинского, посвященный женщине, оплакивающей мужа-офицера над братской могилой расстрелянных:
И если этими словами провожали уходящих, то теперь они остаются памятью о тех, кто не вернулся с этого пути. [3] Геноцид имеет разные проявления. В старой России в реакционных кругах была поговорка: «Крещеный жид-все же жид». Вот так и с реабилитированным – он все же для хранящих чистоту веры остается врагом. [4] Трагизм его ареста запечатлен в знаменитой поэме его матери Анны Ахматовой – «Реквием». [5] В его стихотворении «Дом поэта» находим такие строки:
[6] Освободить каторжан пришло 12 тысяч рабочих Шлиссельбургских пороховых заводов. Заключенные ничего не знали о начавшейся революции. Никто ничего не ждал. Свершилось немыслимое, сказочное. Рухнул оплот многовековой имперской власти. Перестала существовать центральная государственная тюрьма Относящиеся сюда строки [Гернет, 1963] и сейчас нельзя читать без волнения, особенно тому, кто по личному опыту знает, что такое тюремная решетка на окне. [7] Иллюстрируем это хотя бы одним примером: если в 1917 г. численность евангельских христиан-баптистов составляла 250 тысяч, то к 1928 г. она составляла уже около двух миллионов [Bayley, 1987]. Это свидетельствует о том, что народ начал сам выбирать свою веру. И естественно, что выбор здесь пал, прежде всего, на баптистов, несущих большую духовную свободу и вместе с тем требующих большей доброты, отзывчивости и честности. [8] И все же тогда свобода еще не была истреблена до конца. Продолжали существовать два общества помощи заключенным: «Красный крест» – меньшевистский орган (им руководил Винавер) и «Черный крест» – анархистская помощь (руководила Агния Солонович). Узнав о случившемся с Лёлей, я разыскал «Красный крест» – две уютные комнатки где-то в центре Москвы, заваленные какими-то бумагами. Там меня встретили приветливо две незнакомые молодые женщины Я сказал, что принес для Л.Г. деньги и книги по математике (они принадлежали, собственно, ее брату – студенту-математику, тоже репрессированному меньшевику). Мне показалось, что политизолятор это и есть самое подходящее место для изучения высшей математики философски озабоченной девушкой. У меня все приняли с благодарностью и пониманием. Никто не спросил, кто я и откуда я. Напомню название тогдашних Централов (так назывались политизоляторы): Орловский, Ярославский, Владимирский, Суздальский, Верхне-Уральский, Челябинский До сих пор эти названия звучат для меня грозно и в то же время романтично – в то время в Централы шли еще добровольно, из внутренней убежденности, долга, протеста. Хотели предупредить, но не были услышаны. [9] Смысловой вакуум всегда чем-то заполняется. Появляются псевдосмыслы. И сейчас, как встарь, в нашей стране возникла тенденция к национальному обособлению. Вновь проснулся архетип племени. Могучий архетип, проходящий красной нитью по всей истории человечества. Но времена изменились – культура наших дней стоит теперь перед новыми, суровыми проблемами, которые не могут быть решены путем национального обособления. Они носят общечеловеческий характер, и решать их надо (если вообще возможно) только объединенными усилиями. Необходима совместная устремленность к новому. Будущая культура видится очень многообразной, многомерной – транснациональной. Национальное обособление – это проблема вчерашнего дня. Но это уже другая тема. [10] В наши дни такой подход прозвучал в публикациях американского философа немецкого происхождения Пола Фейерабенда. Одно из его изданий называется так [Фейерабенд, 1986]: Против методологического принуждения. Очерки анархической теории познания. Эта книга начинается словами:
[11] Помню, что я в те прошлые годы читал один (не вошедший сюда) философский текст, полученный каким-то непонятным образом непосредственно из политизолятора. [12] Все подстрочные примечания к текстам Солоновича сделаны автором данной работы. [13] Солонович часто подчеркивал неопределимость глубокомысленных слов. Помню, как он говорил о неопределимости слова Свобода, столь важного для анархистов, сравнивая его со словом Бог, также не поддающимся определению. Богу приписывается даже эпитет – быть «несуществующим», поскольку Он выше как существования, так и несуществования. Гностики, как и Псевдо-Дионисий Ареоишит, развивали так называемое апофатическое богословие, стремящееся выразить сущность Бога через отрицание всех относящихся к Нему определений как несоразмерных Его природе. [14] Обращаю здесь внимание на роль «наблюдателя» в квантовой механике, с которой Солонович, видимо, не был знаком. [15] Здесь совпадение со взглядами Ф.Ницше [Нищие, 1910]:
[16] Мы идем дальше и показываем, что и при описании языка нам приходится сталкиваться с проблемой «непрерывность против дискретности» [Налимов, 1978, 1989]. [17] Здесь взгляды Солоновича опять перекликаются с высказываниями Ницше [Ницше, 1910]:
Хочется отметить, что критицизм А.А.Солоновича во многом близок Ф.Ницше, но в работах Солоновича я не встречал ссылок на этого автора. В моей работе Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности по числу упоминаний Ницше занимает второе место после Платона. [18] Подробно роль воображения в процессе познания рассматривается нами в книге [Налимов, 1989]. [19] Здесь явное противостояние Историческому материализму. [20] Я был свидетелем этой борьбы в конце 20-х годов. С позиций анархистов-коммунистов (к которым в основном принадлежали и анархисты-мистики) представлялась нелепой сама постановка задачи о создании партии. В этом случае стирается основная идея анархизма: свобода заменяется подчинением партийной структуре с ее дисциплиной и программным единомыслием. [21] Автор поясняет: Семь стихий: земля, вода, воздух, огонь, свет, звук и мысль (с. 26). [22] Тему творчества я продолжал развивать в книге [Налимов, 1989]:
[23] Здесь Солонович углубляет троичную классификацию личности, идущую еще от гностиков. Различные варианты троичной классификации, как утверждает Макгрегор [MacGregor, 1979], сохранились до наших дней. [24] Мы должны признать, что и в наше время гилизм не изжит. Отсюда бесконечные и ничем не оправданные национальные войны. Несмотря на, казалось бы, высокое состояние культуры, двадцатый век оказался окрашен по преимуществу гилизмом. Родовая кровь вооруженная современной техникой, закипела, как никогда ранее. Как можно это объяснить? Я думаю, что концепцию Солоновича о семантичной троичности природы человека надо расширить, признав многомерность ЭГО. Тогда все объясняется легко. В некоторых острых ситуациях вероятностная структура ЭГО легко перестраивается [Налимов, 1989] Очень яркий пример находим в воспоминаниях Андрея Белого, главы русского антропософского движения [Белый, 1992], в которых он описывает опыт своей внешней и внутренней жизни в Дорнахе в Обществе (братстве) Рудольфа Штайнера, рядом с которым Белый провел несколько лет. В Швейцарии интернациональная группа антропософов, казалось бы, дружно строила свой Гётеанум, воплощая в материале антропософское мирочувствование. Но разразилась война 14-го года:
Война вызвала острый национальный конфликт в антропософской общине, казавшейся вполне пневматической-сформированной и объединенной духовными устремлениями. [25] Здесь я иду дальше. Строя математическую модель семантической Вселенной, исхожу из представления о том, что все смыслы изначально заданы, но не проявлены (состояние семантического вакуума). Проявленность реализуется через сознание человека, обращающегося к числовой мере, Вся концепция в целом может рассматриваться как вероятностная реинтерпретация основополагающих представлений Платона [Налимов, 1989]. [26] Здесь уже прямое указание на многомерность личности. Почему-то, будучи математиком, Солонович не дал здесь математической интерпретации. [27] Напомним здесь следующие слова из Апокрифа от Филиппа [Свенцицкая, Трофимова, 1989]:
[28] В моих последних публикациях [Налимов, 1993] делается попытка показать, что есть достаточные основания для того, чтобы выдвинуть гипотезу о вездесущности сознания. Речь идет, конечно, пока лишь о существовании слабых форм сознания. Именно в этом случае можно найти достаточные основания, не прибегая к соображениям, которые могли бы вызвать резкие возражения у сторонников общепринятого мировоззренческого подхода. [29] Энтелехия – термин, введенный Аристотелем, обозначает актуальную действительность предмета, в отличие от его потенциальности. Форма – способ существования предмета. Термин форма близок к термину энтелехия. [30] Я думаю, что это высказывание в значительной степени свидетельствует об изолированности России уже и в те ранние постреволюционные годы. Непонимание Солоновичем роли философии в духовной жизни, его пренебрежение философией Платона, его незнакомство с экзистенциализмом и его предшественниками не дали ему возможности осмыслить философски свой глубокий мистический опыт. Мне представляется, что делание на Земле должно делаться опробованными земными средствами. И здесь далеко не все возможности исчерпаны. В конце прошлого и начале нового века были найдены новые – «легкие» формы построения философских учений, выходящих за границы сурового рационализма. Что мешало Солоновичу? С одной стороны, изолированность России – она достаточно отчетливо проявлялась уже и в те годы. С другой стороны, безоглядная погруженность в деятельность братства, лежащую в основе мистического анархизма. В то же время отметим, что современные исследования [Koslowski, 1988] показывают, что гностицизм внешне незаметным образом оказал громадное влияние на развитие западной философской мысли. [31] В нашей работе [Налимов, 1993] показано, что если признать вездесущность хотя бы слабых форм сознания, то в мире не исчезнет пространство и время, если мы мысленно исключим «из мира духовные существа». [32] Ассерторические суждения утверждают факт, не выражающий его непреложной логической необходимости, аподиктическое суждение основано на логической необходимости. [33] Сейчас эта тема теряет смысл. В современной физике основой мироздания являются не атомы, а физические поля. Одна из основных задач современной физики – создание единой теории поля. [34] Позднее в науке, как Солонович в мировоззрении, на меня повлиял А.Н.Колмогоров, о чем я пишу в гл. XIII. [35]Темы, упомянутые в последнем абзаце, рассмотрены мною в ряде статей. Сейчас эти статьи изданы в книге под названием. В поисках иных смыслов [Налимов, 1993]. Отмечу, что познавательную роль науки я в каком-то необычном, правда, смысле признаю. Здесь надо учитывать два обстоятельства:
Так мы подходим к созерцанию Тайны мира, не пытаясь раскрывать ее вульгарно. [36] Английское издание посвящено А.А.Солоновичу – это зафиксировано на отдельной странице. Назад в раздел |
||||
| © Ж.А. Налимова-Дрогалина, В.Я. Голованов, А.Г. Бурлука, ООО "БОС" | |||||