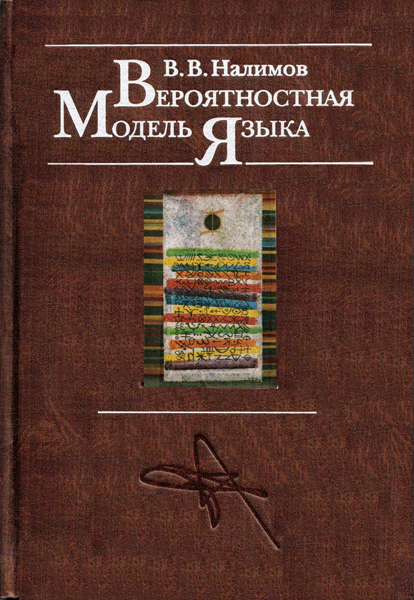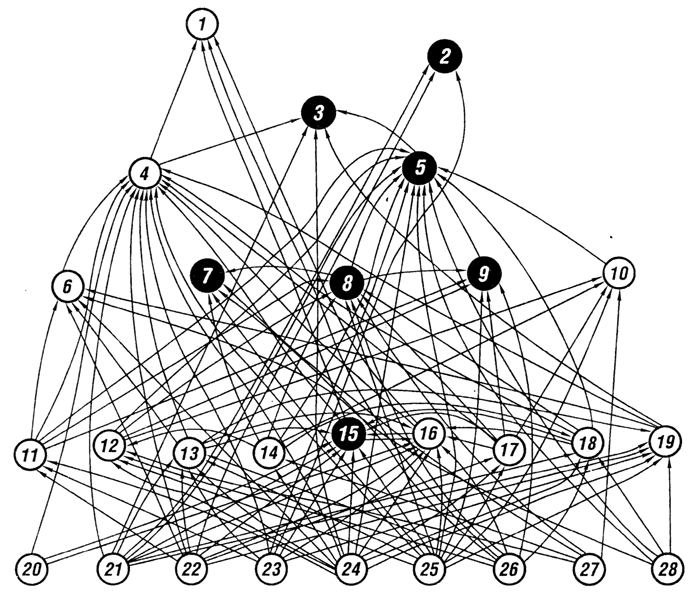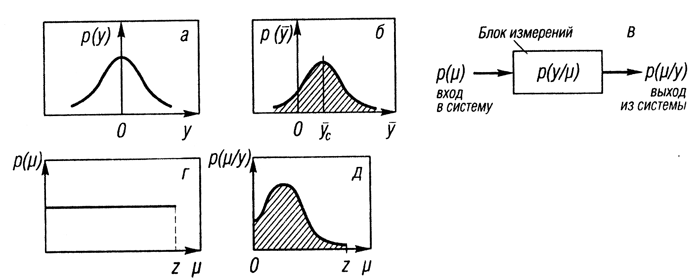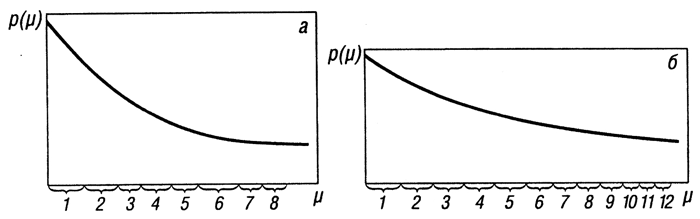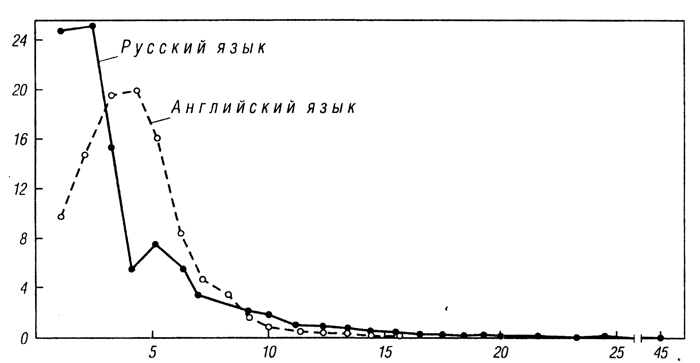Василий Васильевич
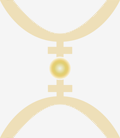 |
ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКА. О соотношении естественных и искусственных языков.
Главы из книгиВведениеВ последнее время наше представление о языке необычайно расширилось. Сейчас изучением языка занимаются не только традиционно настроенные лингвисты, но и представители других, казалось бы, совсем мало связанных между собой, разделов знаний: математики и логики, кибернетики и биологии, искусствоведения. На XIV Международном философском конгрессе в Вене (1968 г.) вопросам языка было посвящено 41 сообщение, что составляет 12,4% от общего числа прочитанных там докладов; краткий критический анализ этих сообщений содержится в работе П.В.Копнина [1971]. Большой интерес к проблемам языка легко объяснить: исследование языка – это один из способов изучения мышления. Кажется разумным говорить, что в изучение процессов познания можно ввести методы, аналогичные тем, которые применяются в современных естественнонаучных дисциплинах, если объектом исследования сделать язык. Тогда при рассмотрении ряда проблем окажется возможным обсуждение соответствующих гипотез путем сопоставления их с реально наблюдаемыми явлениями в сфере познания, – сопоставления, производимого в «точных» терминах («модели» принятия решений, «языкового» поведения и т. п.). Появляется эксперимент, результаты некоторых наблюдений над языком оказывается возможным выражать количественно, гипотезы становятся верифицируемыми. Правда, за все это приходится расплачиваться: при таком подходе теряется глубина в постановке вопросов, которая была свойственна классикам естествознания и философии. Впрочем, то же самое произошло в физике: классическая физика в значительной степени была наукой чисто метрологической и стояла далеко от общеметодологических вопросов; совсем иначе выглядит современная физика с такими ее разделами, как квантовая механика, теория относительности... Здесь затрагиваются уже принципиальные вопросы, но они опять-таки не отличаются той глубиной, которая была присуща раздумьям многих мыслителей прошлого. И, читая даже очень серьезные – основополагающие – работы по современной физике, мы подчас можем лишь догадываться об их методологической подоплеке. Так же обстоит дело и с публикациями в области методологических проблем языка, особенно выходящими на Западе. Если принять совсем наивный, с наших позиций, тезис о том, что языки людей «абсолютно адекватно» – так сказать, зеркально – отражают внешний мир, то отсюда непосредственно будет следовать, что если бы удалось построить универсальную грамматику, то открылась бы реальная возможность ответов на извечные онтологические вопросы – ответов, которые позволили бы полностью понять, как устроен окружающий мир. Такая «универсальная грамматика», конечно, должна была бы охватывать как смысловую классификацию значимых слов («морфологию»), так и правила корректного упорядочения слов в фразы («синтаксис»), и, кроме того, она должна была бы быть построена так, чтобы можно было абстрагироваться от частных особенностей отдельных языков. Такую грамматику, если бы только построение ее было возможно, можно было бы назвать философской грамматикой [Black, 1962]. Мы увидим в дальнейшем, что осуществление этого замысла, к сожалению, невозможно. Совсем особое значение изучение языка приобрело в связи с задачей анализа научного мышления. Наука сделалась объектом исследования, развились такие направления мысли, как науковедение, логика и методология научного исследования. Здесь тоже пришлось, прежде всего, обращаться к изучению языка, а именно языка науки. На этом пути открылась возможность прослеживать логику построения научных рассуждений, выявлять структуру научных постулатов и правила вывода, способы верификации высказываний в науке. Легко объяснить и глубокий интерес к языку у логиков и математиков. В речевом поведении людей широко используются логические построения, отсюда естественно напрашивается мысль о возможности создания абстрактных лингвистических и логических моделей, задаваемых исчислениями. Здесь, правда, возникает новая проблема – взаимоотношение логики и математики. Если, согласно тезису Фреге–Рассела, математика есть часть логики, то, согласно представлениям математиков-интуиционистов, наоборот, логика есть часть математики (подробнее об этом см. в [Френкель, Бар-Хиллел, 1966]). Нам нет необходимости останавливаться на анализе этого противопоставления, важно другое – подчеркнуть глубокую внутреннюю связь между логикой и математикой, позволяющую задавать логические структуры языка математическими моделями. Перед математиками возникли и чисто прикладные задачи лингвистического характера – это, прежде всего, построение алгоритмов для машинного перевода текста с одного естественного языка на другой и построение искусственных языков программирования для взаимодействия человека с вычислительной машиной. Наконец, широко идущий сейчас процесс математизации науки, захвативший даже те области знаний, которые традиционно развивались вне сферы математических построений, показал, что и сама математика может играть роль языка. Во всяком случае, интерес математиков к изучению языка не ограничивается кругом вопросов, входящих в математическую лингвистику – дисциплину и без того очень широкую, которую, следуя Бар-Хиллелу [1965], можно разделить на статистическую лингвистику, занимающуюся частотным анализом знаковых систем, и структурную лингвистику, которая занимается построением абстрактных моделей языка. Для специалистов по кибернетике изучение языка – это одна из основных задач. Объектом исследования в кибернетике являются самоорганизующиеся системы – своеобразные организмы, образованные из некоторого множества вещей, объединенных системой управления. Управление осуществляется путем передачи и переработки сигналов. Структура управления – это структура языка системы. Кибернетика может изучать как живые системы – биологические организмы и их объединения, скажем сообщества людей или их отдельные группы, так и неживые объекты – автоматы, искусственно созданные людьми, или естественно возникшие системы. Наконец, изучаются смешанные системы, скажем биосфера, где происходит информационное взаимодействие между живыми и неживыми вещами. С позиций кибернетики и науку можно рассматривать как самоорганизующуюся систему, которая ведет себя как живой организм: в процессе ее развития возникают существенно новые, заранее не предсказуемые идеи, проходящие в дальнейшем путь сложной эволюции. Эти идеи создаются и развиваются в результате информационного взаимодействия ученых, которое происходит на особом языке – языке науки, отличном от обыденного языка людей. Поэтому изучение языка науки представляет особый интерес для всех тех, кто занимается методологией и историей науки. А если говорить об информатике – том новом направлении знаний, которое пытается осмыслить и улучшить систему научных коммуникаций, то здесь развитие теоретических представлений возможно только на основе глубокого понимания того, как функционирует язык научных связей. Биология, в нашем представлении, также занимается в значительной степени проблемами языка. Вопросы биохимического кода, или, более широко, вопросы межмолекулярных взаимодействий в живой клетке, вопросы генетики, проблема эволюции и совсем старые задачи классификации и систематизации, представление о биосфере как о большом организме и связанная с этим проблема большой экологии – все это может быть сформулировано в терминах науки о языке, если на биологию посмотреть с широких кибернетических позиций. Наконец, и искусствоведение – в определенном плане – можно рассматривать как учение о языке коммуникаций в эмоциональной сфере жизни. Можно говорить о языке абстрактной живописи, о языке музыки, о языке ритма в поэзии и вести вполне серьезные исследования в этих направлениях. Столь широким взглядом на язык мы в значительной степени обязаны опять-таки кибернетике. Ее глубокий философский смысл заключается в том, что она впервые в европейской (и мировой) науке объединила идею изучения систем как целостных организмов (вместо традиционного изучения отдельных явлений, протекающих в системах) с применением научного аппарата логики, математики и «точного» естествознания. Выше мы уже говорили, что система создается из вещей, когда они объединяются некоторой структурой управления, и тогда появляется новый объект исследования – язык. Но при таком широком подходе к языку постепенно стало теряться представление о том, чем же, собственно, является сам язык. Во всяком случае, сейчас уже кажутся весьма наивными те определения понятия языка, которые пытались давать лингвисты «традиционного» направления, хотя в некоторых случаях из особенностей постановки задачи все же следует необходимость сужения понятий о языке. Так, скажем, получилось в совсем новом лингвистическом направлении, связанном с именем Хомского, – представление о языке здесь опять сужается, поскольку это направление занимается изучением универсальной грамматики естественного языка как некоторой «врожденной» структуры у человека. Цель этой книги – выяснить, что же представляет собой язык. Пытаясь сформулировать требования, определяющие те знаковые системы, которые нам хочется рассматривать как язык, мы анализируем функции языка, описываем иерархические структуры языка и его размерность, изучаем различные подходы к классификации языков. Классификация – это один из способов логического анализа сложных систем. Расположение явлений по какой-то определенной схеме, выбранной исследователем для решения стоящих перед ним познавательных задач, – это взгляд на систему в некотором специальном ракурсе, позволяющий отчетливо увидеть то, что ранее оставалось затушеванным. Так будем поступать и мы. В частности, строя семантическую шкалу языков, мы пытаемся посмотреть на все многообразие языковых систем глазами тех, кто придает особое значение вероятностной структуре языка. Чтобы выполнить эту задачу, мы рассматриваем широкую гамму языков: абстрактные языки математики, обыденный язык людей и языки науки, язык древней индийской философии, язык межмолекулярных взаимодействий и, наконец, язык абстрактной живописи. По-видимому, датский лингвист Ельмслев был первым, кто предложил провести сравнительное изучение тех языковых структур, которые не являются языками в традиционном смысле этого слова; он полагал, что таким образом можно будет выделить элементарную языковую структуру, без всех тех осложнений, которые характерны для высокоразвитых языков. Оставаясь на позициях кибернетики, мы рассматриваем язык как некоторый организм, полагая, что, возникнув под влиянием определенных (может быть, еще далеко не понятых нами, тем более в деталях) причин, он продолжает самостоятельно развиваться, проходя свой, специфический путь эволюции и оказывая подчас решающее влияние на иерархически выше стоящие системы, скажем на мышление человека. Взгляд на язык как на некоторую самостоятельную систему можно найти у многих лингвистов еще в докибернетический период; об этом, например, говорили еще немецкие лингвисты Гумбольдт и Шлейхер, а значительно позднее швейцарские лингвисты Соссюр и Балли. Если язык рассматривать как живую систему, открытую непосредственному наблюдению, то мы должны будем согласиться с Ю.А.Шрейдером [1971], утверждающим, что «математическая лингвистика имеет некоторые шансы оказаться той самой областью, откуда возьмут начало новые схемы математического описания живых систем». Предлагаемую вниманию читателей книгу не нужно рассматривать как монографию. Это всего лишь очерки, в которых нам удалось сформулировать только отдельные суждения о кибернетической лингвистике. При изложении своих взглядов мы широко используем многочисленные и разносторонние публикации по вопросам языка, но в то же время не делаем попытки дать какой-либо обзор многообразных научных концепций языка. И тем более мы не пытаемся подвергнуть их критическому анализу. Отдельные понравившиеся нам высказывания мы просто используем для иллюстрации наших суждений, для их усиления или для установления исторической преемственности. Нам представляется, что даже крайние, весьма экстравагантные высказывания имеют несомненный интерес. Это как бы взгляд на сложную систему в некотором совсем особом, очень специальном ракурсе. Такой взгляд позволяет уловить те своеобразные особенности данной системы, которые остаются незамеченными, когда делается попытка рассмотреть ее с более широких, методологических позиций. И нам кажется, что здесь надо не столько критиковать те или иные крайние суждения, сколько понять, почему они возникли. Все же иногда материал излагается в виде диалога с теми, кто много думал и писал о языке. А поскольку речь идет о языке, здесь важно не только то, что сказано, но и как это сказано. Отсюда обилие в книге цитат. Мне, прежде всего, хочется сердечно поблагодарить В.И.Агола, А.Г.Волкова, В.И.Дубовского, Э.М.Думаниса, С.М.Райского, В.В.Федорова и О.В.Шимельфенига за интересное обсуждение рукописи этой книги в процессе ее подготовки. Их замечания и критические высказывания позволили во многом улучшить текст. В подготовке второго издания книги существенную помощь оказал В.С.Тюхтин, которому мы также весьма благодарны[*]. Хочется отметить и помощь, оказанную нашей сотрудницей Л.Н.Карауловой. Первое издание этой книги выходило под редакцией Б.В. Бирюкова с его обстоятельным предисловием. Глава перваяЧто есть язык1. Подборка высказываний о языкеВ естественных и точных науках считается хорошим тоном начинать работу с обзора, классифицирующего и систематизирующего ранее высказанные концепции. В нашем случае этого сделать нельзя. Высказывания о языке столь многообразны, а подчас и противоречивы, что не представляется возможным их упорядочить в какую-то четкую схему, логически развивающуюся в исторической перспективе. Здесь все осложняется еще и тем, что языкознание – это самая древняя ветвь науки. Ее истоки мы можем искать не только в Древней Греции, но и в Древней Индии, и в арабском мире прошлого, и что особенно важно – эти высказывания о языке и сейчас еще представляют своеобразный интерес, они не стали просто достоянием истории науки. Не пытаясь преодолеть эту непомерную трудность, мы ограничимся тем, что просто приведем ряд высказываний о языке, представляющихся интересными с позиций той «вероятностной модели языка», которая будет развернута в этой книге[1]. Все они упорядочены по датам опубликования работ. Точные и естественные науки, развиваясь во времени, растут, как деревья: одни их ветви засыхают и опадают, другие разрастаются, и по мере того как дерево растет, его нижние части врастают в землю – уходят в область истории. Языкознание развивается не так – это мозаика ярких цветов на обширном лугу, и этот луг оказывается волшебным: после появления новых цветов старые не вянут, не теряют своей яркости и свежести. И все возрастающая яркость суждений приводит к появлению высказываний, которые воспринимаются как гротески, как кактусы в мире растений. Контраст в суждениях увеличивается, но проблема остается нерешенной. И наша коллекция высказываний (неизбежно субъективная!) – лишь слабая попытка отразить эту яркую картину. Главная ее цель заключается как раз в том, чтобы показать, как развитие работ по семантике языка приводит не к окончательному решению основной семантической проблемы, а к ее углублению. Попытка одностороннего решения проблемы немедленно ведет к построению суждений, может быть, и интересных своей парадоксальностью (ср. приводимые ниже высказывания Л.Витгенштейна), но не разрешающих, а только обостряющих проблему. И именно в этом отношении интересны и поучительны крайние суждения. Мы здесь сознательно отказываемся от встречающегося в нашей методологической литературе комментирования острых суждений, лишь помогая читателю правильно сориентироваться в предлагаемой коллекции. Главная проблема семантики формулируется так: как связан знак с тем, что он обозначает, как знаковые системы используются в интеллектуальной деятельности, как, почему и в какой степени одни люди понимают то, что говорят другие, почему в процессе развития культуры появляются новые и все более сложные знаковые системы, чем различаются в семантическом отношении знаковые системы, созданные в разные культурные эпохи, чем они отличаются от единственной известной нам знаковой системы, созданной не социальным путем, – биологического кода.
Нашу подборку высказываний о языке мы завершим стихотворением Г. Гессе[47] [1969], относящимся к 1943 г.
Наша подборка, конечно, не заменяет очерка по истории языкознания и не претендует на полное и адекватное отображение развития науки о языке, а тем более философской интерпретации природы языка. Мы отобрали лишь некоторые высказывания, наиболее ярко и контрастно выражающие основную контроверзу, исходя из которой мы будем развивать вероятностную модель языка, как некоторое решение этой контроверзы. Дело в том, что, даже не пытаясь сколько-нибудь детально систематизировать эти высказывания, мы все же сможем, хотя бы очень грубо, выделить две основные тенденции в развитии взглядов на язык в европейской мысли, восходящей к античной культуре. Одна из них – это взгляд на язык как на очень жесткую структуру, каким-то безусловным образом связывающую знак с обозначаемым. Вторая тенденция – это взгляд на язык как на мягкую структуру[48], столь сложную, что правила приписывания смыслового содержания знакам или их комбинациям не поддаются четкому упорядочиванию в привычных для европейского мышления логических схемах. Первое из этих направлений отчетливо проявляется в древнегреческой традиции: там слово – это имя вещи; таким образом, знак и смысл оказываются связанными естественным и единственно возможным способом. Если обратиться к соответствующим источникам, то эту тенденцию легко проследить и у гностиков, развивших учение о таинственных и магических свойствах имен. Она сохранилась в какой-то степени и в средневековой философии, которая рассматривала имя не как произвольный знак, а как нечто символически причастное именуемому. По нашей подборке эту тенденцию, идущую из древнего мира, читатель легко сможет проследить и в высказываниях о языке в работах Нового времени. Но здесь появляются и более сильные утверждения: у Гартли язык уже рассматривается как один из видов алгебры, и трудно представить себе, что его высказывание (см. с. 12) действительно относится к середине XVIII в. В Новое время в связи с развитием точных наук представление о жесткой структуре языка получило иную трактовку – возникло мнение, что это, скорее, свойство некоторого идеального языка, и таким языком в первую очередь, казалось, должен был стать язык науки. Картезианская философская установка потребовала для языка науки точного и четкого значения слов. Лейбниц развивал идею универсальной символики и логического исчисления – правил оперирования этими знаками. Чтобы не загружать и без того уже слишком большую подборку, мы не включили в нее высказывания о языке представителей этого направления. Позднее – в наше время – представление о жесткой структуре языка своеобразно преломилось в программе логического позитивизма, направления, возникшего в 20-х годах нашего века почти одновременно в Австрии – известный Венский кружок, Германии, Англии, Польше и в значительной степени исчерпавшего себя уже к 60-м годам[49]. «Конструктивная» программа логических позитивистов была направлена на реконструкцию науки – ее формализацию. И естественно, что в этой программе одно из центральных мест занимала идея создания опять-таки универсального языка с идеальными терминами, отчетливо понимаемыми в отличие от бессмысленных терминов спекулятивных построений. В соответствии с этим термины науки делились на теоретические и нетеоретические. Последние, в свою очередь, – на примитивные термины, которые могут быть понятны непосредственно (без определения) в процессе анализа эксперимента или теории, и точные термины, для определения которых задаются необходимые и достаточные условия и используются примитивные термины системы. Далее вводятся постулаты – правила соответствия – и создаются смешанные фразы; они содержат по крайней мере один теоретический термин и хотя бы один нетеоретический и являются частью теории. Теоретические термины прямо не определяются – их смысл задается теорией, которая связывает их с хорошо определенными нетеоретическими терминами. Теория в этой системе представлений складывается из множества фраз, состоящих из аксиом и теорем. Теоретические тексты могут содержать и смешанные фразы, и фразы, состоящие только из нетеоретических терминов; такие фразы подлежат проверке и служат для подтверждения теории. Люди науки не восприняли эту, на первый взгляд казалось бы, очень четкую концепцию. Практически оказалось невозможным построить такую логически четкую иерархию научных терминов; хотя и сейчас еще продолжаются попытки упорядочить научную терминологию, но эта тщетная деятельность проводится вне каких-либо общетеоретических представлений. Естественно, что логический позитивизм подвергся резкой критике (см., например, [Швырев, 1966]). Практически оказалось невозможным строго разделить термины на теоретические и нетеоретические: можно ли, например, отнести термин «температура» к нетеоретическим терминам, ведь экспериментально мы наблюдаем только изменение длины столбика ртути в термометре; или другой пример: представление о «короле Артуре» оказывается в большей степени теоретическим, чем представление об «электроне», ибо о короле Артуре мы знаем экспериментально меньше, чем об электроне [Achinstein, 1968]. Заметим, что мы не занимаемся здесь разбором логического позитивизма как философского направления. Критике «платформы» неопозитивизма посвящена обширная литература отечественных и зарубежных авторов, к которой мы и отсылаем читателя[50]. Для нас интересно лишь то, что идея жесткости языка – в той форме, как ее формулировали логические позитивисты, – не получила поддержки в реальном развитии науки. Но идея эта не погибла. Концепция жесткой структуры языка снова с особой остротой возродилась в связи с задачей машинного перевода текстов с одного языка на другой. Возникла заманчивая перспектива свести лингвистическую семантику к логической семантике. Строятся абстрактные модели естественных языков, состоящие из некоторых начальных объектов-атомов и правил построения из них сложных объектов. Выдвигается представление об универсальной семиотической системе, служащей инвариантом языков мира. Утверждается, что такой генотипический язык, не данный нам в прямом наблюдении, существует объективно. Второе направление лингвистической мысли – представление о том, что мягкая структура языка – это не его ущербность, а, наоборот, отражение его многообразия и внутренней силы, – можно легко проследить на протяжении всей истории Нового времени. Из приведенной нами выше подборки видно, что эта мысль начинает преподноситься во все более ярких и смелых формулировках. Вполне отчетливо она была сформулирована уже у Гумбольдта, во всяком случае, ему уже было ясно, что все многообразие человеческой мысли нельзя задать каким-либо исчислением, построенным по примеру математики. Далее, уже у Шлейхера, мы находим утверждение о том, что жизнь языка столь же сложна, как жизнь других – биологических – организмов. Постепенно возникает представление о том, что смысл сказанного надо искать не в словах – именах вещей, а в фразах, построенных из слов. Слово начинают интерпретировать как знак, ассоциативно связанный с полем смысловых значений. Высказываются и, казалось бы, уже совсем еретические суждения о произвольном понимании смысла слова, как выразительно говорит об этом Шалтай-Болтай у Кэролла. Особенно отчетливое указание на мягкую структуру языка мы находим у представителей Женевской школы – Балли говорит, что его охватывает страх перед беспорядком, царящим в механизме языка. Читая эти высказывания лингвистов, невольно удивляешься, как одновременно могла развиваться противоположная концепция, диктуемая верой в возможность задания языка жесткой структурой. В нашей подборке высказываний о языке мы уделили значительное место Л.Витгенштейну. Это мы сделали потому, что критика языковой программы логических позитивистов началась изнутри – первым «вероотступником» оказался именно Витгенштейн. Основное произведение Витгенштейна раннего периода – Логико-философский трактат [1958], опубликованный в 1921 г., обычно принято относить к числу работ логико-позитивистской направленности, и там действительно много говорится о построении искусственного, логически совершенного языка в духе Фреге–Рассела, в котором символика должна быть устроена так, чтобы она подчинялась... «логической грамматике, логическому синтаксису». Но на самом деле все обстоит не так просто и с этой ранней его работой: она написана в виде отдельных, подчас парадоксальных высказываний, многие из которых содержат необычайно острые суждения о языке, отнюдь не укладывающиеся в доктрины логического позитивизма; во всяком случае, этот трактат вызвал массу комментариев[51], словно это было не научное произведение, а некоторое откровение. В последней, посмертно опубликованной работе Философские исследования [Wittgenstein, 1953][52] Витгенштейн уже исходит из представления об огромной сложности и запутанности языка людей и в качестве основной – исходной – позиции рассматривает игровую модель языка. Витгенштейна можно считать одним из родоначальников того направления интерпретации языка, которое называют английской лингвистической школой. Строго говоря, возникновение этого направления, в котором более отчетливо, чем когда-либо ранее, было сформулировано представление о мягкой структуре языка, надо связывать прежде всего с работами Мура, который начал заниматься критическим анализом языка еще в начале XX века. Часто оба эти направления – логический позитивизм и английскую лингвистическую школу – объединяют под одним термином аналитическая философия. Основанием для такого объединения является отнюдь не общность доктрины, а общность подхода – ориентация на анализ смысла высказываний. Во всяком случае, установка «лингвистического анализа» – это не четко сформулированная концепция, а лишь некоторая интеллектуальная настроенность, в рамках которой могут появляться совсем не согласованные между собой, глубоко индивидуальные суждения. Здесь нет ведущей фигуры. Критическую оценку «философского анализа» в целом можно найти в статьях В.С.Швырева [1964, 1970], а также в книге М.С.Козловой Философия и язык [1972]. Мы касаемся здесь этого направления лишь в плане отношения его представителей к проблеме «мягкий или жесткий язык?». Примечательно, что в рамках этой школы мы наблюдаем отчетливую негативную реакцию на свойственную некоторым логическим позитивистам (Карнап) ориентацию почти исключительно на математическую логику (т. е. на «жесткие языки») и подчеркивание важности феномена «мягкости» естественных языков. Установка на анализ языка (и «понятий», этим языком выраженных) – как естественного, так и языка науки – сама по себе не является чем-то сомнительным. Это обстоятельство в нашей литературе подчеркивала С.А. Яновская. Она, в частности, отмечала, что «анализ отнюдь не всегда состоит в сведении сложного к простому: в наиболее интересных случаях он, наоборот, обнаруживает сложность простого и, таким образом, позволяет увидеть (обнаружить, доказать) то, что без анализа оставалось бы нераскрытым» [Яновская, 1963]. Анализ языка в известном смысле – это оперирование «мягким» в языке в терминах «(более) жесткого». Естественно поэтому, что представление о жесткой структуре языка не могло отступить и уйти на задний план. Своеобразным завершением устремлений к построению универсального языка явилось знаменитая книга Гессе Игра в бисер [1969], за которую он был удостоен Нобелевской премии. В этом произведении речь идет об Ордене, хранителе особого универсального языка – тайнописи Игры стеклянных бус. Там каждый знак «поистине всеобъемлющ, каждый символ и каждая комбинация символов ведет не куда-нибудь, не к отдельно взятому примеру, эксперименту или доказательству, но к центру, к тайне тайн мира, к основе всех знаний». Язык был поистине универсален, в нем значились: «...формула астрономической математики, принцип построения старинной сонаты, изречения Конфуция и тому подобное – все на языке Игры, в знаках, шифрах, аббревиатурах и сигнатурах». Языковые игры разыгрывались как всенародный праздник. Различалось два типа Игры – формальный и психологический. «...Формалисты от Игры все свои старания прилагали к тому, чтобы из предметных тем каждой партии – математических, языковых, музыкальных и тому подобное – создать сколь возможно плотную, закругленную, формально совершенную целостность и гармонию... Напротив, психологическая школа добивалась единства и гармонии, космической законченности и совершенства не столько через выбор, систематизацию, переплетение, сопряжение и противопоставление тем, сколько через следующую за каждым этапом Игры медитацию, на которую здесь переносились главные акценты... Абстрактный и, по видимости, изъятый из времени мир Игры был достаточно гибким, чтобы в сотнях нюансов находить соответствие духовному складу, голосу, темпераменту и почерку личности... Игра... замыкает в себе играющего после завершенной медитации, как поверхность сферы свою сердцевину, и под конец заставляет его почувствовать, что некий безупречно стройный и гармонический мир принял его в себя и изъял из мира случайного и запутанного». Язык Игры в отличие от обыденного языка людей был закрытым или почти закрытым языком – новые знаки и правила вводились туда только в редких, исключительных случаях, и это вполне естественно для языка жесткой структуры. Книга Гессе очень многопланова, и в каком-то одном из этих планов просматривается тонкая ирония по поводу идеи универсального языка, в каком-то другом плане – это мечта о создании такого языка.
2. Характеристики языковых знаковых системИз приведенной выше подборки видно, как трудно дать содержательное определение, раскрывающее смысл понятия языка. Трудности здесь связаны прежде всего с тем, что традиционно настроенные лингвисты, а вслед за ними и все энциклопедии мира ограничиваются лишь изучением самой сложной системы – обыденного языка людей. Правда, иную, необычайно широкую позицию заняли лингвисты-раскольники, вставшие под знамена семиотики, – они стали рассматривать все мыслимые знаковые системы, и язык их стал интересовать лишь постольку, поскольку он является одной из таких знаковых систем. И совсем иначе все восприняла нелингвистическая научная мысль: к категории языка оказались отнесенными новые системы – появилось представление о языке биологического кода, о языке абстрактной живописи, языке музыки, появились языки программирования. Сложилась довольно любопытная ситуация: лингвисты-семиотики ушли от языка к изучению знаковых систем вообще, а научная нелингвистическая мысль пошла другим путем – она сосредоточилась на изучении языка, расширив понятие языка включением в него других, в каком-то смысле похожих систем. Нам кажется, что такое расширение понятия языка дает возможность лучше уяснить его природу. Рассматривая системы более простые, чем обыденный язык, прошедший очень сложный и долгий путь эволюции, мы можем лучше понять отдельные особенности языка, которые в одних языках могут быть резко гипертрофированы, в других могут находиться в скрытом, вырожденном состоянии. Попробуем сформулировать структурные характеристики и функциональные свойства тех знаковых систем, которые интуитивно нам хочется рассматривать как языки. Здесь мы прибегаем к тому виду аргументации, который относится к индуктивным формам мышления. Приведем формулировку из Трактата Витгенштейна: «Процесс индукции состоит в том, что мы принимаем простейший закон, согласующийся с нашим опытом». «Но этот процесс имеет не логическое, а только психологическое основание» [1958] (парадоксы 6.363 и 6.3631). Функциональные характеристики. Начнем с анализа функциональных характеристик языка. Следуя общепринятой традиции, будем считать, что язык прежде всего функционирует как средство общения. Это есть некоторая система, служащая для передачи какой-либо информации[53]. Передача информации в процессе общения людей может производиться не только словами, но и любыми другими знаками. Танец, музыка, символы религиозных культов, картины абстрактной живописи – все это знаковые системы, выполняющие функцию коммуникации. Обмен информацией может происходить не только между людьми, но также между человеком и электронной вычислительной машиной – отсюда представляется вполне естественным говорить и о языках программирования. Следующий шаг – возможность коммуникации между некоторыми неживыми устройствами, скажем, между двумя ЭВМ. Сделав этот шаг, естественно было бы пойти дальше и считать, что обмен информацией возможен также и между любыми неживыми вещами. Но такое утверждение встречает сопротивление даже на интуитивном уровне наших представлений. Многие явления физического мира мы можем рассматривать в терминах приема и передачи информации. Но вряд ли, например, захочется нам интерпретировать фотоэлектрический эффект в физике как отклик на монолог источника света, обращенный к металлу, а кванты света – как слова этого монолога. Если мы встанем на такой путь, то физика и химия немедленно превратятся в языковые дисциплины, а слово «лингвистика» просто станет синонимом слова «наука». Выполнение функции коммуникации не может рассматриваться как требование, необходимое и достаточное для возведения знаковой системы в ранг языка. Это, скорее, только необходимое требование. Достаточным условием будет выполнение некоторых ограничений, накладываемых на знаковые системы специфическими структурными характеристиками языка, к описанию которых мы вернемся позднее. Эти достаточные условия не могут одновременно быть и необходимыми, так как они иногда приобретают вырожденный характер – нельзя требовать, чтобы все признаки, характеризующие язык, выполнялись с одинаковой степенью отчетливости. А сейчас остановимся еще на одной функциональной характеристике языка – на свертке, хранении и воспроизведении информации. В традиционных работах по лингвистике на эту особенность функционирования языка не обращали внимания. И действительно, в обыденной практике процесс хранения информации осуществлялся без свертки – книги писались лишь на слегка измененном разговорном языке, и, следовательно, здесь не возникало каких-либо особых проблем, связанных с хранением информации. Проблема свертки информации впервые была четко сформулирована в математической статистике, когда возникла необходимость компактного представления результатов наблюдений в форме, удобной для опубликования. Ведь, действительно, нет смысла представлять для опубликования в статье все результаты наблюдений, если они, допустим, представляют собой выборку из нормально распределенной генеральной совокупности. В этом случае достаточно опубликовать выборочные оценки параметров – математическое ожидание и дисперсию – и указать то число наблюдений, по которому эти параметры были подсчитаны. Но здесь мы сразу сталкиваемся с целым рядом сложных проблем: оценки параметров должны быть сделаны так, чтобы они были несмещенными, т. е. лишенными систематических ошибок, и эффективными, т. е. они должны быть получены так, чтобы точность в их оценке была максимально возможной; возникает задача построения таких алгоритмов свертки, которые извлекали бы всю информацию, содержащуюся в результатах наблюдений. Вслед за Фишером многие статистики сейчас считают, что свертка информации – это одна из центральных задач математической статистики. Проблема свертки информации особенно остро стала проявляться после распространения ЭВМ. Представьте себе, например, задачу по уточнению тех или иных констант. Такая работа ведется почти непрерывно: из года в год в машину вводятся все новые и новые данные, относящиеся к одной и той же задаче, но получаемые подчас в несколько различных условиях, и они должны быть представлены в таком хорошо свернутом виде, чтобы машине каждый раз легко было выдавать разумно уточненные результаты. Далее возникла уже совсем грандиозная задача – использование ЭВМ для хранения и выдачи всей информации, содержащейся в научных публикациях, или более скромная задача – поиска публикаций по каким-то сгусткам информации. Все это, безусловно, языковые задачи – электронные вычислительные машины постепенно становятся средствами нашей коммуникационной деятельности и язык приобретает новые функции. Функция свертки играет исключительно большую роль в языке биологического кода. Вся соматическая, а может быть, в значительной степени и психическая структура организма кодируется в генах половых клеток каким-то удивительно компактным образом. Трудно сказать, во сколько раз здесь происходит сжатие информации, но оно представляется каким-то совершенно баснословным. Здесь приходится обратить внимание еще на одну особенность – на механизм восстановления свернутой информации. Этот механизм, по-видимому, удивительно точен: однояйцевые близнецы, по крайней мере, в раннем возрасте, пока не сказалось влияние внешней среды и пока не произошло накопление ошибок кода в процессе восстановления клеток, удивительно похожи друг на друга. По определению А.Н.Колмогорова, сложность некоторого сообщения определяется той информацией, которая необходима для его восстановления (подробнее смотри обзор [Звонкин, Левин, 1970]). Если, скажем, мы имеем дело с последовательностью чисел, состоящих из нулей и единиц, то, грубо говоря, сложность здесь будет характеризоваться минимальным числом двоичных знаков, необходимым для того, чтобы заменить эту последовательность при передаче ее по каналам связи. Такое определение сложности хорошо воспринимается интуитивно. Представьте себе, что нам необходимо куда-то передать по каналам связи такие числа, как p и е. Ясно, что нет необходимости передавать непосредственно все вычисленное сейчас множество цифровых знаков, задающее приближенное значение этих чисел; достаточно передать алгоритм их вычисления. Если, однако, эти цифровые знаки представить как последовательность чисел, то, применяя все известные статистические методы анализа, мы не сможем отличить их от случайной последовательности чисел, записанных, скажем, счетчиком, измеряющим радиоактивный распад. В некоторых алгоритмах для генерирования псевдослучайных чисел использовались цифры, образующие числа p и е, и полученные таким образом случайные числа с успехом применялись в задачах моделирования по методу Монте-Карло. Однако только последовательность чисел, полученных при регистрации радиоактивного распада, является по-настоящему сложной: она не может быть записана какой-то более короткой последовательностью знаков. В этом смысле она является случайной последовательностью, если, следуя А.Н.Колмогорову, случайными называть элементы большой конечной совокупности знаков, для которых сложность максимальна. Еще один пример: представьте себе, что мы генерируем псевдослучайные числа, последовательно выписывая последний знак в пятизначных логарифмах натуральных чисел. На первый взгляд кажется, что здесь мы имеем дело с хорошим генератором случая, но если ориентироваться на приведенный выше критерий, то это оказывается совсем не так – эту последовательность легко кратко записать четким заданием процедуры генерирования. Теперь вернемся к анализу текста обыденного языка. Представим себе, что мы имеем дело с каким-либо художественным произведением. Его нельзя передать по каналам связи, используя какую-то более короткую запись реферативного характера. Это произведение мы должны признать сложным, и сложность здесь так велика, что такой текст можно отнести к разряду случайных. То же самое относится и к сколько-нибудь серьезной научной публикации – ее содержание не может быть восстановлено по реферату. Поставьте следующий мысленный опыт: реферат новой, еще не опубликованной работы раздают группе ученых, работающих в той же области, и просят их восстановить исходный текст. Легко представить, сколь сильно будут расходиться полученные таким образом тексты. Здесь невольно хочется задать вопрос: как же можно говорить, что реферативные издания заменяют оригинальные журналы? Даже чисто математическая статья не может быть однозначно задана ее рефератом. Из теоремы Гёделя, о которой мы будем говорить ниже, следует, что на языке обычно используемых формальных систем нельзя дать строго формализованного определения понятию доказательства в математике внутри той же системы. Но ведь каждый автор должен убедить читателя в правомерности найденного им способа доказательства, а этого, как правило, нельзя сделать в тексте реферативного характера. Теперь несколько слов о биологическом коде. Выше мы уже говорили о поразительном сходстве однояйцевых близнецов. Несмотря на кажущуюся сложность биологических организмов, информация о них свертывается с почти безупречной точностью, значит, организмы должны быть признаны простыми – неслучайными текстами; язык биологического кода устроен совсем удивительным образом. Итак, мы видим, что представление о случайности – одной из основных философских категорий – может рассматриваться и с чисто языковой позиции, если одной из функций языка мы будем считать задачу свертки и воспроизведения информации. С этих позиций отнесение какого-либо явления к категории случайного определяется нашими языковыми возможностями[54]. Может оказаться, что явление, описываемое нами сегодня как случайное, через некоторое время, после того как будут найдены новые средства его представления и анализа, будет рассматриваться как неслучайное. На относительность высказываний, связанных с особенностями использованных языковых средств, всегда надо обращать особое внимание. Вполне возможно, что первые сообщения из других миров – если они когда-либо будут получены – будут восприняты просто как случайные и, следовательно, ничего не значащие сигналы; на это обстоятельство также обращал внимание А.Н.Колмогоров. До сих пор мы говорили о внутриязыковой свертке. Но попробуем теперь взглянуть на проблему свертки с более широких позиций. Если мы будем противопоставлять язык мышлению, то нельзя ли и сам язык рассматривать как, может быть, и не очень компактную, но все же кодовую систему? Нам очень понравилось высказывание на эту тему известного мыслителя А.Швейцера [1973]:
Структура языка: алфавит и грамматика. Прежде всего, по-видимому, здесь нужно говорить о субэлементарных знаках языка – морфемах, а для письменной речи – об алфавите, из которого строятся элементарные знаки – слова, образующие словарь языка, и о грамматике, т. е. о тех правилах, с помощью которых над словами строятся тексты. Здесь можно поставить вопрос: является ли наличие алфавита и грамматики условием, достаточным и необходимым для того, чтобы знаковую систему можно было считать языком? Оказывается, что на этот, казалось бы, совсем простой вопрос нелегко ответить. Можно назвать, например, знаковую систему, интуитивно воспринимаемую нами как язык и в то же время не имеющую в явном виде ни алфавита, ни грамматики: язык библиографических ссылок в научных публикациях. Это особый язык, в котором с каждой библиографической ссылкой ассоциируются идеи, содержащиеся в ранее опубликованной работе, соответствующей этой ссылке. Ученому нет необходимости заново излагать содержание публикаций, на которые он опирается в своей работе, – достаточно дать на них ссылки. Просматривая какой-нибудь журнал, мы прежде всего обращаем внимание на пристатейные библиографические ссылки и по ним уже судим о том, нужно ли нам затрачивать усилия на ознакомление с той или иной из просматриваемых нами публикаций. Ссылки выполняют двойную роль: они связывают читателя с материалами, появившимися ранее, и, кроме того, дают ему представление о возможном содержании той работы, где ссылка помещена. С помощью библиографических ссылок происходит очень емкое кодирование информации с очень точным ее воспроизведением – по ссылке просто надо найти соответствующую публикацию. Попробуем теперь произвести структурный анализ этого языка. Элементарным знаком здесь, по-видимому, надо считать всю ссылку, взятую в целом. Отдельные ее части – фамилии авторов, их инициалы, название и номер журнала и название статьи (если оно есть в ссылке) – не имеют самостоятельного значения и могут рассматриваться как части субэлементов знака, такие же, как, скажем, черточки и другие части букв нашего обыденного алфавита. Каждая новая публикация кодируется своим особым, новым знаком. Первичная знаковая система здесь носит открытый характер, и она, строго говоря, не может рассматриваться как алфавит, поскольку под алфавитом мы понимаем всегда закрытую или почти закрытую субзнаковую систему, т. е. такую систему, где набор возможных субзнаков задан заранее и длительное время остается неизменным. И что особенно интересно, здесь трудно обнаружить грамматику – т. е. правила, с помощью которых над этими знаками производятся какие-то операции. Правда, мы знаем, как обращаться со знаками этого языка, но эти весьма расплывчатые приемы вряд ли можно назвать грамматикой. Во всяком случае, в них не заложены правила построения сложных логических конструкций. M.Блэк [Black, 1962], критикуя концепцию универсальной грамматики, обращает внимание на то, что и в нашей обыденной речи привычные нам грамматические категории не всегда можно наблюдать. Вот один из его примеров: обсуждая игру в шахматы в терминологии XIX в., мы сказали бы, допустим, так: «...король переместился из такой-то позиции в такую-то». Здесь ясно, что слово «король» – это подлежащее. Но вот в современной записи такого типа, как, скажем, «е2–е3», уже трудно различить, что обозначает собственно предмет, а что – действие над ним. Далее, ссылаясь на Энтуистла [Entwistle, 1953], Блэк указывает на то, что китайский язык, вполне приспособленный для коммуникации в условиях современной цивилизации, не имеет классификационных категорий, изобретенных для индоевропейских языков. Еще интереснее его ссылка на Уорфа [Worf, 1956]: оказывается, в полисинтетических языках индейцев Америки изолированное слово является предложением, а последовательность таких слов-предложений составляет нечто вроде сложного предложения. Попробуем такое составное предложение имитировать на нашем языке: «Вот некто, кто является мужчиной, который находится вон там, который занимается беганием, который пересекает то, что является улицей, которая длится», – хотя оригинальное предложение состояло просто из предикативных лексем «один», «мужчина», «там», «бежать», «пересекать», «улица», «длинная», и правильным переводом этой фразы будет: «Вон там бежит человек по длинной улице»... О таком полисинтетическом языке иногда говорят, что все слова в нем – глаголы или что все слова – существительные, к которым добавляются глаголообразующие элементы. В действительности же в применении к такому языку термины «глагол» и «существительное» оказываются бессмысленными. Такое безграмматическое построение в какой-то степени напоминает язык библиографических ссылок – здесь нет привычных грамматических категорий. Окончательный вывод из нашей системы суждений таков: алфавит и грамматика все же, конечно, являются структурными элементами языка, они отчетливо прослеживаются в большинстве знаковых систем, воспринимаемых нами как языки, но в некоторых случаях они могут носить явно вырожденный характер. В дальнейшем мы еще не раз столкнемся с тем, что некоторые, может быть и весьма существенные, характеристики языка в отдельных языковых системах будут вырождаться, и это не сможет быть достаточным критерием для того, чтобы не считать такие вырожденные системы языком. По-видимому, явно обречена на неудачу уже сама попытка очень четко сформулировать требования, необходимые и достаточные для признания знаковой системы языковой категорией. Язык относится к числу таких понятий, о которых мы можем говорить, но которые не можем строго определить. Знак и значение. Попробуем теперь несколько подробнее остановиться на том, как знак используется для передачи смыслового содержания сообщения[55]. Прежде всего, выясняется, что мы не можем дать сколько-нибудь удовлетворительного определения того, что есть «знак». Приходится опять-таки ограничиваться утверждением о том, что это некоторое сложное понятие, смысл которого раскрывается в тех фразах, где оно употребляется. Но вот что явно необходимо обсуждать – это вопрос о том, как знак связан со смысловым содержанием. Хочется напомнить здесь приведенное выше, на с. 28, высказывание Райла о том, что вся философия XX века преимущественно изучала проблему значения. Причину появления таких крайних суждений легко понять: ведь вся культура человечества находит свое выражение в знаках, и изучение знаковых систем – это анализ духовного содержания культуры и связанных с нею заблуждений. С позиций тех, кто придерживается модели жесткой структуры языка, знак должен быть однозначно связан с обозначаемым. Пожалуй, наиболее четко это требование сформулировано тем же Витгенштейном в его Трактате. По его мнению, мы должны использовать такую символику, которая исключает ошибки истолкования смысла выражений языка, «не применяя одинаковых знаков в различных символах и не применяя одинаковым образом знаки, которые обозначают различным образом, т. е. символику, подчиняющуюся логической грамматике – логическому синтаксису» [1958] (парадокс 3.325); в предложении, говорит этот автор, должно быть в точности столько различных частей, сколько их в положении вещей, которое оно изображает [1958] (парадокс 4.04). В обыденном языке, безусловно, нет такого соответствия между знаком и обозначаемым: при некоторых обстоятельствах мы можем употреблять один знак для обозначения того, что обычно обозначается двумя существенно различными – антисинонимичными знаками. Иллюстрируем эту мысль примером, заимствованным из книги [Black, 1962]. Представьте себе, что за рулем сидит некто, обучающийся правилам вождения машины. Вместо того чтобы говорить ему stop и go, вы можете просто посвистеть, и обучающийся, безусловно, поймет вас – в нужные моменты времени он будет трогаться и останавливаться. Знак посвистывания заменяет, казалось бы, два совершенно различных слова. Знаковая система здесь построена так, что посвистывание обозначает необходимость «изменения состояния»; в другой знаковой системе это действие задавалось бы двумя разными словами, которые выбирались бы в зависимости от того, в каком состоянии находится машина. Этот пример приятен своей парадоксальностью. Можно привести и множество других примеров, менее парадоксальных, но постоянно встречающихся в нашей повседневной речи. Здесь сразу же возникает много вопросов: чем вызвано существование этой знаковой неоднозначности, хорошо это или плохо, нужно ли, следуя раннему Витгенштейну, стремиться к ее преодолению хотя бы в языке науки? Это кардинальные вопросы в учении о языке, мы посвятим их обсуждению всю следующую главу нашей книги. Не лучше обстоит дело с пониманием семантической роли грамматики. Когда утверждают, что грамматика – это правила оперирования со знаками, то здесь не очень ясно, что же имеется в виду: чистая грамматика – синтаксис, оперирующий с символами вне зависимости от вкладываемого в них содержания, или же еще и классификация знаков по их смысловому употреблению. Витгенштейн в своем Трактате утверждает: В логическом синтаксисе значение знака не должно играть никакой роли; должна быть возможна разработка логического синтаксиса без всякого упоминания о значении знака; она должна предполагать только описание выражений [1958] (парадокс 3.33). То, что не может выражаться в знаке, выявляется при его применении. То, что скрывают знаки, показывает их применение [1958] (парадокс 3.262). Но если смысл знака открывается в его применении, то грамматику уже нельзя отделять от смыслового содержания знаков. И действительно, грамматика обыденных языков, несомненно, опирается на смысловое содержание знаков. В то же время грамматика абстрактных языков, рассматриваемых в математической логике и в теории автоматов, имеет дело только с операциями над символами, в которые не вкладывается какое-либо содержание в обыденном понимании этого слова. В дальнейшем мы будем употреблять слово «грамматика» в разных смыслах, полагая, что читателю каждый раз нетрудно будет уловить, что именно мы хотим сказать. Иерархическая структура языка. К анализу структуры языка можно подойти и с иных позиций – рассматривая его иерархию. Одна из особенностей языка состоит в том, что один и тот же язык может быть представлен в различных знаковых системах, образующих некоторую иерархическую систему разных уровней. Например, для обыденного языка, скажем для русского письменного языка, мы имеем систему уровней, состоящую из букв, морфем[56], словоформ[57], сегментов[58], фраз[59] и т. д. Ю.А.Шрейдер [1966] считает даже, что это свойство языка может служить его определением. В его терминологии это звучит так: «Языком будем называть категорию эквиморфных знаковых систем». Можно было бы, конечно, пойти дальше и попробовать построить иерархическую классификацию логической структуры языка. Можно искать некие единицы смысла, аналогичные словам – единицам речи. Витгенштейн в своем Трактате пытался проанализировать иерархическую структуру логики высказываний, вводя такие термины: name, proposition, structure, saying, showing. Такой подход представляется весьма заманчивым, но он оказывается, как правило, нереалистическим. Точно так же, как нереалистичной оказалась предложенная логическими позитивистами смысловая иерархия слов, когда слова делились на теоретические и нетеоретические, а последние, в свою очередь, на примитивные (для которых не формулировались необходимые и достаточные условия) и точно определяемые (для которых эти условия формулировались). Выше мы уже говорили о том, что практически такую структуру терминов проследить не удается, не попадая в логические ловушки. Нужно признать, что логическая иерархия высказываний существует в языке, но она оказывается столь завуалированной, что практически ее проследить невозможно. Приходится ограничиваться анализом знаковой иерархии. Наличие знаковой иерархии, видимо, действительно можно принять за условие, необходимое для того, чтобы знаковую систему можно было рассматривать как язык. Здесь перебрасывается мост между «языком» и «мышлением». Феноменологически мышление – это процесс построения из простых знаковых систем более сложных, внешне это как раз и находит свое выражение в иерархической структуре языка. При этом «мышление» мы здесь понимаем в очень широком – обобщенном – смысле, полагая, что этот процесс имеет место и при функционировании ЭВМ, и при развитии биологического организма из оплодотворенной клетки, когда знаковая система складывается во все усложняющуюся иерархическую структуру. Если мы возведем иерархическую структуру знаков в ранг главного признака языка, то немедленно получим возможность исключить из языковых категорий простые информационные процессы, происходящие в неживой природе, скажем фотоэлектрический эффект в физике, о котором мы уже говорили выше, и у нас будет достаточно формальных оснований не считать физику и химию лингвистическими науками. Используя этот критерий, приходится проявлять крайнюю осторожность. В отдельных случаях иерархическая структура языка, как и все его другие характеристики, может носить явно вырожденный характер. Вернемся еще раз к обсуждению языка библиографических ссылок, о котором речь уже шла раньше (см. с. 45). Первое впечатление таково, что здесь иерархии нет. Но на самом деле это не так. Подбирая тематически близкие статьи по общности имеющихся в них библиографических ссылок, мы производим процедуру иерархического упорядочивания. В качестве примера на рис. 1 приведена парадигма[60], образованная сетью библиографических ссылок в обзоре литературы по ДНК [Garfield, 1970]. Первым уровнем в иерархической структуре языка ссылок является единичная ссылка, вторым уровнем будут парадигмы, аналогичные приведенным на рис. 1, и, наконец, третьим уровнем будет всем сейчас уже хорошо известный SCI – Индекс научных цитат Гарфилда. В нем упорядочены все публикации, в которых имеются ссылки на некоторую заданную статью, – здесь уже совершенно явно прослеживается высокое иерархическое упорядочивание элементарных знаков – библиографических ссылок. Признав наличие иерархической структуры за критерий возведения знаковой системы в ранг языка, мы тем самым исключим из языковой категории всю информацию, создаваемую искусством образов. В частности, например, абстрактную живопись рассматривать как язык можно – там легко прослеживаются алфавит, грамматика и иерархическая структура (подробно мы об этом
будем говорить ниже), но вот предметная живопись вряд ли является языком, во всяком случае, на том уровне понимания этого вопроса, на котором мы находимся сегодня. Для предметной живописи трудно построить достаточно компактный алфавит и грамматику, и там трудно проследить иерархическую структуру. Получится нечто нелепо громоздкое, если мы попытаемся какую-либо предметную картину, скажем полотно Рубенса, представить в виде последовательности некоторых элементарных знаков – алфавита живописи, над которыми произведены некие операции согласно какой-то грамматике. В предметной живописи сам образ является одновременно и первичным, и окончательным знаком[61]. Только в отдельных случаях образ превращается в знак – это наблюдается, например, в сюрреалистической живописи: если там, скажем, женскую грудь помещают не туда, где ей положено быть, то она из образа превращается уже в знак. На образ может накладываться знаковое обрамление в виде стиля письма. Это особенно четко проявляется в иконописи. Люди, имеющие опыт, мгновенно отличают иконы псковского письма от московского, хотя в обоих случаях образ один и тот же. Насколько нам известно, языковым анализом стиля до сих пор занимались очень мало. Правда, уже П.А.Флоренский хорошо понимал, что современные правила построения перспективы в изобразительном искусстве, возникшие еще в эпоху Возрождения, – это только особая орфография, не исключающая иных систем транскрипции. Он описал одну из них – так называемую обратную перспективу в старой русской иконописи [Флоренский, 1967]. Позднее этот вопрос был подробнее исследован Л.Ф.Жегиным [1970]. Исключение информации, задаваемой образами, из языковой категории может вызывать и некоторые возражения. Словесные конструкции, напоминающие по своей структуре образы, используются в некоторых разделах знаний – не только в гуманитарных, но даже и в некоторых точных науках, например в биологии. Представьте себе, что вы читаете вполне серьезную работу по теории эволюции. Там четкое логическое изложение мысли вдруг может оборваться пространной вставкой с описанием, скажем, серого хомяка. Авторы явно пытаются дополнить логику своих суждений созданием у читателя некоего образа. Можно ли этот прием считать внеязыковым? Образ здесь создается знаковыми средствами, а сама потребность дополнить логику рассуждения созданием образа несет в себе все же что-то рудиментарное. И другой пример: пиктографическое, а также, пожалуй, иероглифическое письмо есть опыт построения языка с четко выраженной иерархической структурой, где в то же время элементарным знаком оказывается образ. Может быть, иероглифическое письмо – это зафиксировавшийся в определенной знаковой системе переход от образного мышления к логическому, которое по своему характеру требует знаков абстрактной структуры. Иероглифическая знаковая система несет в себе следы еще дознакового – образного – мышления. Иерархия языков – метаязыки. Для языков с высокоразвитой логикой можно наблюдать еще одну особенность – существование иерархий языков. Это происходит тогда, когда один язык становится объектом другого, иерархически выше стоящего языка, или, как принято теперь говорить, метаязыка, на котором ведется разговор о правомерности высказываний, сделанных на нижестоящем языке – языке-объекте. Понятие метаязыка вошло в науку в связи с работами известного немецкого математика Гильберта (1862–1943) по созданию метаматематики – метатеории[62], в которой исследуется правомерность построения рассуждений в математике[63]. На метаматематическом языке ведется разговор о математике и ее логических основаниях. Предметом математики являются некие структуры, представляющие собой собрание внутренне непротиворечивых аксиом и логические выводы из них, записанные на языке формул. Предмет метаматематики – высказывания о таких формальных системах. Например, «Арифметика непротиворечива» есть высказывание метаматематики. Наш обыденный язык является метаязыком по отношению к «языку» окружающих нас вещей. Говоря на обыденном языке, мы оперируем не с вещами, а с их именами. И, строя наши суждения о вещах внешнего мира, мы пытаемся упорядочить их в некоторые непротиворечивые конструкции – это эквивалентно тому, что мы ищем логические основания устройства мира вещей. Можно пойти дальше и показать, что наш обыденный язык постоянно выполняет две различные функции: один раз на нем формулируются некоторые высказывания, другой раз – обсуждается правомерность этих высказываний. И здесь возникают противоречия, которые не могут быть разрешены средствами того же самого языка. Эти противоречия немедленно исчезнут, если мы поймем, что высказывания о правомерности наших суждений относятся уже к другому языку – метаязыку, для которого анализируемые нами суждения являются высказываниями на языке-объекте. Простое, неиерархическое объединение этих двух высказываний в одну фразу бессмысленно, такая фраза формально может породить противоречия, интуитивно нами воспринимаемые как реально не существующие. Семантические парадоксы возникают, когда принципы формальной логики применяются так, что игнорируется факт «незамкнутости» – иерархической, «многоуровневой» организации – языка; это хорошо объяснил Тарский[64], хотя еще раньше этот вопрос рассмотрел Рассел. Рассел ввел представление о типах слов и типах суждений, относящихся к разным иерархическим уровням. Несколько вульгаризируя, мы можем сказать, что слова «стол», «стул», «кресло» относятся к словам более низкого уровня, чем слово «мебель», во всяком случае, нельзя сказать, что у меня перед глазами две вещи: стул и мебель. Концепция Рассела оказала глубокое влияние на развитие современной логики. Стало ясно, что не всякая грамматически правильная фраза выражает некоторое осмысленное утверждение. Потребовалось вводить ограничения на выразительные, а не только на дедуктивные, как это делалось раньше, средства теории. Таким путем удалось преодолеть некоторые парадоксы «наивной» теории множеств в математике. Приведем несколько примеров семантических парадоксов. В романе Тургенева Рудин описывается спор, в котором Пигасов утверждает, что убеждений не существует. Ему возражает Рудин:
К такого же рода аргументации часто прибегают и в научных спорах. Блэк [Black, 1949], полемизируя с Льюисом, автором книги Mind and World Order (N. Y., 1929), утверждает, что если последний прав, то только он один и может себя понять, говоря, что все высказывания есть собрания неопределенных символов. В.А.Лекторский [1971] обращает внимание на то, что аналитическая философия заводит борьбу с метафизикой настолько далеко, что принципиальное декларирование «антиметафизичности» приходится считать уже метафизикой. И далее он добавляет: «Тем самым в лице лингвистического анализа аналитическая философия доходит до той грани, когда она, по существу, отрицает себя и выходит за собственные пределы». Нам представляется, что это как раз и есть вполне естественный путь рассуждений, – грань, о которой здесь говорится, и есть разграничение между высказываниями на языке и метаязыке. Английская «лингвистическая школа» перешла эту грань. Строго говоря, это уже не «философия», а только «метафилософия». Если придерживаться общепринятого понимания термина «философия», включающего как необходимый признак мировоззрение, то это направление бессодержательно, поскольку собственно философские проблемы оно не рассматривает. С парадоксальными высказываниями, похожими на приведенные выше, мы постоянно встречаемся как в обычных разговорах, так и в научных беседах, и, как правило, не придаем им решающего значения. Мы реагируем на них так, как будто бы понимаем, что в нашей речи незаконно перемешался язык-объект с метаязыком. Здесь хочется привести высказывание Витгенштейна: «Язык не может изображать то, что само отражается в языке. Мы не можем выразить языком то, что само выражается в языке» [1958] (из парадокса 4.121). Многие трудности в построении нашей системы рассуждений связаны с тем, что мы вынуждены на обычном языке делать высказывания, относящиеся к тому классу суждений, которые возможны только на метаязыке. Все, кому приходилось сталкиваться с проблемой оптимизации, знают, как трудно сформулировать понятие цели. Совсем легко построить процедуру оптимальных действий, если сформулирована цель, но цель сформулировать тем труднее, чем сложнее система, подлежащая изучению или управлению. Формулировка цели относится уже к задаче, решение которой можно искать только на метаязыке[65]. Часто оказывается, что у нас нет достаточных оснований для того, чтобы сформулировать метавысказывание, и поиск цели превращается в неразрешимую задачу. Мы хотим что-то сделать хорошо, но не знаем, что такое хорошо. С такой задачей мы постоянно сталкиваемся при организации экспериментальных исследований. Оказывается, совсем непросто ответить на вопрос, что такое хороший эксперимент. Обычно это становится безусловно ясным уже после того, как экспериментальное исследование завершено. Тогда в нашем распоряжении оказывается описание эксперимента, сделанное на языке-объекте, и, обсуждая то, что высказано на нем, мы можем подняться на одну иерархическую ступень выше и понять, что значит хороший эксперимент. Характерной чертой «аналитической философии» является сведение философской деятельности только к анализу языка. «Аналитики» стремились создать «метаязык», могущий служить, как они говорили, средством терапии – критического анализа философского языка с помощью особых, хорошо технически разработанных правил. Вот несколько высказываний Витгенштейна, в которых он пытается свести философию к метатеории [1958] (парадокс 4.112):
С точки зрения непредубежденного читателя такое сужение задач философии, означающее отказ от построения доктрин общемировоззренческого характера, отказ, лишающий философию содержательного характера, совершенно неправомерно. Вместе с тем очевидно существенное философско-методологическое значение метатеоретических рассмотрений. Термин «метатеория» употребляется лишь по отношению к некоторой конкретной теории, и в принципе можно говорить о метатеории любой научной дисциплины. Неудивительно, что приведенные выше высказывания Витгенштейна, в применении к философии звучащие как совершенная «крайность», приобретают гораздо больше резона, если их понимать как относящиеся не к философии, а к математике (заменив «философию» и соответствующие прилагательные на «математику», «математическая», «математических»)[66]. Делались попытки высказать некоторые соображения о том, как должен быть устроен тот или иной метаязык. Здесь, прежде всего, интересно обратить внимание на противопоставление языка математики языку метаматематики. Математика является системой формализованной (или, лучше сказать, формализуемой) – логические процедуры в ней производятся без того, чтобы давать какую-либо интерпретацию в терминах явлений внешнего мира. Математик имеет дело со специально придуманной системой знаков[67], и, доказывая теоремы, он смотрит только на эти знаки, а не на то, что находится «за» ними. В отличие от этого метаматематика оказывается интуитивно содержательной (хотя и она может быть формализована), а ее утверждения формулируются на обыденном языке. Клини в своей хорошо известной книге Введение в метаматематику [1957] пишет по этому поводу:
Ниже мы покажем, что сформулированные выше свойства языка метаматематики не есть требования, которым должен обязательно отвечать любой метаязык. Математика, как будет показано в разд. 3, гл. IV, сама может выступать в роли метаязыка по отношению к другим разделам знаний, и тогда метаязык оказывается формализованным в большей степени, чем язык-объект. Иные требования к метаязыку предъявляются в концепции Тарского. Выше мы уже упоминали, что причину семантических парадоксов он видит в семантической замкнутости языка. Вводится понятие семантически незамкнутого языка. Тогда утверждения о семантических свойствах данного объектного языка формулируются не в самом этом языке, а в метаязыке. Семантические понятия могут вводиться в метаязык двояким образом: как первичные понятия, свойства которых задаются посредством системы аксиом, или как понятия, для которых вводятся определения. Второй путь для нас интереснее – он ближе к тому, что происходит в обыденном языке. Метаязык должен быть богаче объектного языка, только тогда можно определить в нем такие понятия логической семантики, как истинность, обозначение, определимость и пр. Это значит, что он должен содержать логический словарь не менее богатый, чем объектный язык, и в нем должны быть дополнительные переменные[68], принадлежащие к более высокому логическому типу. Метаязык должен быть настолько богат, чтобы все, что утверждается в терминах объектного языка, могло быть сказано в метаязыке, в частности, в нем должны быть и средства для построения имен объектного языка. Это, конечно, некоторая идеализированная схема, направленная на строгое решение задачи о семантических парадоксах, сформулированной в рамках логической семантики. Ниже мы покажем, что реально существует много метаязыков, не удовлетворяющих требованиям Тарского, хотя все они, безусловно, стоят иерархически выше объектного языка и в каком-то смысле всегда содержат более сильные высказывания. Оставаясь на формальных позициях, мы должны считать, что имеем дело с метавысказываниями каждый раз, когда обсуждается та или иная теория или когда сопоставляются несколько теорий. Некоторые метавысказывания нам могут показаться бессодержательными, но формально они сильнее объектных высказываний, поскольку объектные теории здесь являются предметом обсуждения. Для того чтобы оценить метавысказывания, мы должны построить систему метарассуждений. Иногда мы встречаем сетования, что наша культура все больше и больше засоряется высказываниями о высказываниях, которые заменяют оригинальные высказывания. В нашем обыденном языке, как мы уже говорили выше, все время каким-то трудно различимым образом смешиваются высказывания на языке-объекте с высказываниями на метаязыке. Метаязык обыденной речи использует ту же знаковую систему и те же логические средства, что и сам обыденный язык, являющийся здесь объектом высказываний. Основываясь на критериях психологического характера, метавысказываниям мы часто придаем несравненно больший вес, чем объектным высказываниям, и, как правило, никогда не сопоставляем эти два типа высказываний с точки зрения их логической совместимости. Парадокс, если хотите, заключается в том, что семантические парадоксы всегда беспокоили только логиков, остальным людям они не очень мешали. Логики долго не могли заметить различия в суждениях разного уровня. Здесь опять проявляются два отношения к языку: жесткое и мягкое. Только при взгляде на язык как на жесткую структуру выявляются семантические парадоксы, и надо строить жесткую систему их преодоления, скажем, как у Тарского. Учение об иерархии языка, или, по терминологии Рассела, о типах высказываний, нужно, видимо, считать самым серьезным результатом в послеаристотелевской формальной логике. Интерпретируемость смыслового содержания, выраженного в знаковой системе. Знаковая система имеет право называться языком, если она может быть интерпретируема на другом языке, который может быть или более богатым по своей выразительности, или почему-либо более понятным для определенной группы людей. Мы сознательно говорим здесь не о переводе с одного языка на другой, а только об интерпретируемости. Строго говоря, перевод с одного языка на другой невозможен даже для совершенно жестких языков; к обсуждению этого вопроса мы еще вернемся позднее. Все наше языковое поведение пронизано процедурами интерпретации. Разговаривая с иностранцами, мы интерпретируем родную речь в системе другого языка, и это на самом деле не перевод, а только интерпретация. Обсуждая серьезные проблемы физики, ученые интерпретируют абстрактные знаки математического языка физики. При исполнении музыкальных произведений интерпретируются тексты, записанные нотными знаками. С задачей интерпретации мы встречаемся и в обыденном языке. Один из примеров такой интерпретации – театральные представления. Книги, даже художественная литература, часто сопровождаются интерпретацией, выраженной графическими иллюстрациями. Пьеса – текст, написанный на обыденном и, казалось бы, совершенно понятном нам языке, нуждается, по замыслу ее автора, в интерпретации на другом, более богатом языке, в котором используются дополнительные средства выразительности: интонации голоса, жесты и, что, может быть, особенно важно, образы, создаваемые игрой артистов. Здесь мы возвращаемся к дознаковой – образной передаче информации. Какую-либо серьезную вещь, скажем Гамлета, два режиссера могут интерпретировать в образах игры совершенно различно, не внося никакого искажения в словарный текст[69]. А образное воплощение знакового текста, в свою очередь, может быть интерпретировано в знаковой системе – в отзывах рецензентов. Но, как и все характеристики языка, возможность интерпретации может приобрести вырожденный характер, и ниже мы приведем пример неинтерпретируемости, или, если быть уже очень осторожным, плохой интерпретируемости одного из терминов языка физики. Безэнтропийность языка. К анализу знаковых систем можно подходить, конечно, и совсем с особых позиций. Очень интересным представляется термодинамический подход к анализу символов в книге Н.И. Кобозева [1971]. Вопрос там ставится так: «...какой механизм позволяет заведомо энтропийному физико-химическому аппарату мозга создавать идеализированные безэнтропийные конструкции, осуществлять с их помощью логическое мышление, точное кодирование и безошибочное опознание символической записи любой мыслительной продукции?» Безэнтропийным, по утверждению автора, является «не само физико-химическое или морфологическое тело символа, а только его опознание сознанием или механизмом, которому придана функция этого сознания». Безэнтропийность восприятия символов освобождает сознание человека для деятельности более высокого уровня, и здесь, по мнению автора упомянутой выше книги, лежит коренное отличие психики человека от психики животных, для которых интенсивность информации физико-химического сигнала играет очень большую, часто решающую роль. Психика животных целиком оказывается заполненной «восприятием и анализом звуков, цветов, запахов и оценкой их интенсивности и направленности». К утверждению Н.И.Кобозева, конечно, нужно подходить с некоторой осторожностью. Известно, что у животных есть способность реагировать на ритмы определенной частоты звука независимо от его громкости, некоторые животные способны различать геометрические формы тел независимо от их величины, окраски, материала и пр. Безэнтропийность языка – это особенность отнюдь не сознания человека, а только знаковой системы. Представьте себе, что мы имеем дело с ЭВМ. В ее память мы можем занести некоторую информацию. На это, естественно, потребуется затратить какую-то энергию. Сохранение информации будет связано с сохранением некоторой упорядоченности. Но все эти энергетические процессы совершенно не зависят от того, какая именно информация занесена – очень серьезная или очень простая. Здесь отсутствует видимая связь между морфологической сложностью объекта и его информативностью. Только в этом смысле и можно говорить о безэнтропийности знаковых систем. Теперь мы можем сформулировать следующее утверждение: знаковая система превращается в язык, когда знаки воспринимаются безэнтропийно. Это одна из характеристик языка. И она, как и все его другие характеристики, может принимать вырожденный характер – это имеет место, например, в языке музыки, где громкость воспроизведения отдельных звуков уже является отличительной особенностью знака. Изложенный здесь подход позволяет рассматривать язык как знаковую систему, дающую возможность мыслительному аппарату человека работать без подвода извне отрицательной информационной энтропии для восстановления порядка, который должен был бы спонтанно нарушаться, если бы мышление было организовано так же, как организован физический мир. Размерность языка и его нелинейность. По-видимому, Балли [1955] был первым лингвистом, обратившим внимание на одну особенность обыденного языка людей – на его нелинейность, обусловленную двумерностью знаковой системы. «Знаки бывают линейными, когда они следуют друг за другом, не проникая друг в друга по ходу речи», – пишет Балли и в качестве примера нелинейного[70] знакосочетания приводит французский оборот tout à coup, где отдельные слова tout, à и coup, взятые в отдельности, лишены всякого смысла[71]. Смысл этого оборота речи задается только взаимодействием элементарных знаков – текст оказывается нелинейным. Здесь в строчку письменной речи оказался развернутым двумерный знак, который мы должны были бы включать в фразу как-нибудь так:
Тогда только этот знак входил бы в нашу речь линейно; он имел бы такой же статус, как и остальные знаки речи. Если мы хотим считать нашу речь линейной, то должны признать, что хотя бы некоторые обороты речи носят двумерный характер. Любопытно, что Балли в этом рассуждении о нелинейности речи предвидел те практически важные задачи, с которыми мы сталкиваемся при переводе языка химических формул в код, удобный для введения информации в ЭВМ. Язык химических формул двумерен, а иногда и трехмерен, язык машины линеен. Было предложено очень много алгоритмов, переводящих двумерные записи химических формул в линейную последовательность знаков. Вся беда в том, что в процессе перекодирования обслуживающий персонал допускает очень много ошибок – до 20%. При записи химических формул в линейной последовательности знаков теряется та наглядность двумерных представлений, которая позволяет избегать ошибок в обычных записях. Двумерный язык, с позиций приемника-человека, обладает бóльшими возможностями, чем одномерный язык. Двумерным оказывается и язык нотной записи. Хорошо известны трудности в нотной записи современной музыки. Одна из попыток ее преодоления – нотная запись музыкального произведения в виде двумерного зрительного образа, напоминающего абстрактную картину. В статье «Искусство сегодня – три лика» (Курьер Юнеско, март 1973 г.) приведена страница такой нотной записи из хорового произведения молодого уругвайского композитора Серхио Серветти «Свет во мраке». Оказывается, что в нашей повседневной жизни мы имеем дело и с языками большей размерности. Примером трехмерного языка является язык наших цветовых восприятий. На опыте был установлен закон сложения цветов Грассмана (см. об этом в книге Н.Т.Федорова [1939]). Он формулируется так: если даны какие-либо четыре интенсивных цветовых стимула, всегда можно составить цветовое уравнение между кратными этих стимулов. Обозначив через W, X, Y, Z единицы четырех стимулов, мы можем подобрать такие коэффициенты, что будет удовлетворяться уравнение wW=xX+yY+zZ. При этом коэффициенты х, y, z могут принимать и отрицательные значения. Физически это интерпретируется следующим образом: если дан некоторый подлежащий воспроизведению стимул F, то может оказаться, что на цветовом фотометре для получения одинакового впечатления мы должны будем на одном поле смешать в определенной пропорции два стимула Y и Z, а на другом – смешать анализирующий стимул с третьим эталонным стимулом X, что символически запишется так: F=xX+yY+zZ. За единичные символы X, Y и Z выбираются монохроматические потоки в соответствии с некоторой договоренностью. Итак, язык интенсивных цветовых восприятий оказывается трехмерным, хотя язык внешнего мира – энергетический спектр – двумерен. Но здесь есть одна тонкость: на языке спектральных представлений мы должны были бы любой цветовой стимул записать отрезком непрерывной кривой, откладывая по оси абсцисс частоты, по оси ординат – энергии. На языке цветовых восприятий непрерывная двумерная запись интерпретируется в дискретной трехмерной записи. Размерность языка цветовых восприятий не совпадает с размерностью того мира, который он описывает (если мир устроен так, как его представляют физики). У нас нет оснований полагать, что размерность языка отражает размерность того мира вещей, который на этом языке обсуждается. Классическая физика удовлетворялась наивным представлением о трехмерном пространстве, существующем независимо от времени. Релятивистская физика не могла быть изложена на языке этих представлений – возник язык четырехмерного пространственно-временнóго континуума. Но пространственно-временнóе расстояние в мире Минковского ds2=dx2+dy2+dz2–c2dt2 с мнимой временнóй координатой вряд ли имеет смысл интерпретировать в терминах обыденного языка. Здесь создан язык значительно более высокого уровня абстрактности. Представление Канта о пространстве и времени как о врожденных категориях, не данных нам в опыте, вошло в явное противоречие с современной физикой, которая наполнила эти понятия совсем новым, необычным содержанием. Это новое содержание пришло из опыта, или, может быть, точнее, – из необходимости найти язык для описания и интерпретации опыта. И высказывания Канта в определенном смысле можно рассматривать как догадку о том, что пространственно-временные категории в одном из своих аспектов имеют языковую природу. Особенно ярко языковый характер многомерных пространственных представлений проявляется в математике. Рассмотрим задачу классификации объектов по множеству признаков. Допустим, что нам надо произвести классификацию стран мира по множеству самых разнообразных признаков, характеризующих эти страны, или классификацию какой-либо биологической популяции или социальной популяции – людей – по множеству признаков, характеризующих, скажем, физическое состояние их организма. На все задачи такого рода можно, с определенной точки зрения, смотреть как на задачи языкового характера. Мы хотим разбить подлежащих классификации индивидуумов на некоторые группы так, чтобы с каких-то определенных позиций было удобно вести о них разговор. Это отнюдь не онтологическая задача: нас совсем не беспокоит то обстоятельство, что найденные нами группы однородных в каком-то смысле людей или государств фактически не образуют реально существующих, изолированно действующих систем. Для решения такой языковой задачи приходится вводить в рассмотрение многомерное пространство признаков. Задача классификации заключается в объединении индивидуумов в некоторые группы в этом пространстве признаков. Метрика этого пространства может быть по-разному организована. Признаки могут быть заданы в разных шкалах: одни из них могут быть линейными, другие – для очень разбросанных признаков – логарифмическими; от пространства признаков, задаваемых матрицей X, мы можем перейти к пространству ковариаций, задаваемых матрицей Х*Х. Результаты классификации будут зависеть от того, как мы организуем метрику пространства независимых переменных, точно так же, как любое другое наше высказывание, сделанное на обыденном языке, зависит от нашей точки зрения. По-разному организуя метрику пространства, мы можем по-разному посмотреть на одну и ту же сложную систему. До сих пор мы говорили о знаковой – семиотической – размерности языка. Можно говорить и о его семантической размерности, задаваемой полиморфизмом языка. Только язык строго однозначных слов был бы семантически одномерным. Смысл многомерных – полиморфных – слов раскрывается при их употреблении в их взаимодействии. Следовательно, можно говорить, что наш обыденный язык семантически нелинеен. Приемник языка – человек – выступает как нелинейный преобразователь. Заканчивая первую главу книги, мы хотели бы просить читателей не возмущаться некоторой зыбкостью всей системы рассуждений. Язык – слишком сложный организм, хранящий и причудливым образом сочетающий то, что было приобретено в долгой эволюции. Его описание не укладывается в простые логические схемы, а в то же время мы ничего не умеем описывать, не прибегая к логическим построениям. На сложный узор мы набрасываем грубую сеть своих построений. Сеть, конечно, можно сколь угодно усложнять, но не потеряется ли отчетливость суждений? В этой работе нам пришлось наложить определенные ограничения на смысловое содержание некоторых слов. Но к этому не надо относиться слишком серьезно – возникающие при этом понятия не имеют какого-либо устойчивого смысла. Мы сами готовы будем от них отказаться, как только нам где-нибудь в другом месте это понадобится. В этом, как нам представляется, и проявляется гибкость языка, его способность при изменении ситуации перестраиваться и в семантическом плане. Глава втораяВероятностная теория значения1. Постановка задачиЭту главу можно было бы также озаглавить: вероятностная семантика, или вероятностная семасиология. Она занимает центральное место в нашей системе суждений. Основная наша задача – построить модель, отражающую как логическую структуру языка, так и ту его сложность, которая находит свое внешнее выражение в существовании неоднозначной связи между знаком и обозначаемым. Коммуникация между людьми происходит на логическом уровне. В нашу повседневную речь постоянно вплетаются цепочки силлогизмов. В явной форме никто не формулирует постулаты, но мы их легко улавливаем даже в самых незамысловатых высказываниях. Уже с детства усваивается логическая структура речи. Вот один пример: женщина настойчиво спрашивает маленького мальчика – сына математика-вероятностника: «Почему ты не девочка?» Подумав, он отвечает: «Наверное, потому, что я мальчик». В этой энтимеме[*1] неявно используется посылка, утверждающая, что одновременно нельзя быть мальчиком и девочкой. На ее основании человек делает вывод, что раз он мальчик, то уже поэтому не может быть девочкой. Но даже ребенку это суждение не кажется очень содержательным, и он поэтому добавляет слово «наверное». Даже подвыпившие люди пытаются рассуждать логично. Как-то в вагоне-ресторане молодой человек на вопрос, почему он так мрачен, ответил лаконично: «Потому что жена бросила». А на вопрос: «Почему бросила?» – последовал столь же краткий ответ: «Почему, почему... Да потому что я ее не бросил раньше». В этой энтимеме скрытый постулат звучит так: обстановка была такова, что брак нужно было расторгнуть; отсюда следует, что тaкoe решение исходило от жены просто потому, что он сам не сделал этого раньше. Конечно, в обыденной речи наряду со строго логическими приемами используются и правдоподобные рассуждения, скажем рассуждения по аналогии, удачные иллюстрации и пр. Но все же им придается меньший вес – ведь есть же народная французская пословица: Comparaison n'est pas raison. To обстоятельство, что в обыденной речи исходные постулаты не формулируются в явном виде, позволяет приписывать им разный вес, что, конечно, обогащает систему суждений, расширяет ее рамки, хотя и делает ее менее строгой. На это обстоятельство обратил внимание Блэк [Black, 1949], критикуя строго аксиоматические приемы построения теории с их безусловным демократизмом в оценке как самих аксиом, так и вытекающих из них следствий. Ведь если не все следствия равноценны, то некоторые из них, не согласующиеся с другими нашими наблюдениями или противоречащие нашим наблюдениям, можно опустить, и это не будет разрушать всю систему суждений. Правда, высказывания с неявно сформулированными посылками трудно поддаются критическому анализу. Любопытно отметить, что крупнейшие дедуктивные (а лучше сказать, дедуктивнообразные, квазидедуктивные) построения XVIII–XIX вв., такие, как философия Канта или философия Гегеля, построены так, что в них не выделены отчетливо исходные посылки. Логическая структура речи привлекла внимание логиков. Логики стали заниматься лингвистикой. Изучая язык, они не могли не заметить его логической недостаточности. Отсюда стремление исправить язык, особенно язык науки. Из этого стремления – если иметь в виду не общефилософскую, а специально-логическую сторону вопроса – возникла программа логических позитивистов, о которой мы уже говорили выше. И из него же возникла логическая семантика, истоки которой восходят еще к работам Пирса (1839–1914) и Фреге (1848–1925). Но если направление логического позитивизма быстро обнаружило свою несостоятельность и стало угасать, то логическая семантика испытала устойчивое и неуклонное развитие, превратившись позже в одно из конкретных направлений логико-семиотических исследований. Логическая семантика – это раздел металогики, который занимается интерпретацией формализованных систем (логических, логико-арифметических и иных исчислений); в ней изучаются такие проблемы, как природа имен, явления смысла, значения, истинности и ложности языковых выражений и др. С помощью этих понятий логическая семантика изучает свойства искусственных языков и языков науки. Задача здесь становится уже более скромной – изучение, а не исправление языка науки. Методы и проблемы логической семантики оказались глубоко связанными с проблемами и методами математической логики. Большой вклад в развитие логической семантики внесли Рассел, Карнап, Чёрч, Тарский, Кемени. Где-то на пересечении математической логики и теории автоматов возникло еще одно направление – математическая лингвистика, которая строит строго формализованные модели естественных и искусственных языков. Здесь речь идет уже о построении строго формализованных грамматик для символических языков. Направление, альтернативное формально-логическому подходу к анализу языка, исходило из идеи о силе и богатстве естественного языка, о невыразимости его в системе формально-логических построений. В отличие от высказываний логических позитивистов здесь утверждалось, что язык нужно не исправлять – всякое исправление повело бы к его обеднению, – а изучать и правильно употреблять. Это направление зародилось еще в начале нашего века в Англии. Первые шаги на пути к формированию английской «лингвистической школы» сделал, как мы уже упоминали выше, английский философ Мур, работавший в Кембридже. В 1903 г. вышла его книга Принципы этики [Moore, 1903], в 1917 – книга Концепция реальности [1959]. В первой из этих книг он говорит о том, что в этике трудности часто возникают из стремления дать ответ на вопрос, не дав себе труда понять его смысл; при этом мы часто оказываемся не перед одним, а перед несколькими вопросами, нуждающимися в тщательном анализе и классификации[*2]. Мы не будем здесь рассказывать о том длинном пути, который прошла английская лингвистическая школа, много сторонников которой оказалось в США. Оставим в стороне и общефилософские взгляды представителей этой школы, отослав читателя к упоминавшейся уже нами критической литературе. Вместо этого мы сошлемся на сравнительно недавно вышедшую в США книгу П.Ципфа Семантический анализ [Ziff, 1964], в которой речь идет о семантическом анализе высказываний. Как пишет сам автор в предисловии, книга родилась из желания ответить на вопрос, что значит сказанная на английском языке фраза good painting – «хорошая картина». Возник этот вопрос у автора при работе над манускриптом по эстетике. Далее у него возникли и такие вопросы: «Почему кто-то должен поверить в то, что я сказал?», «Что заставляет меня думать, что это так?». В последней главе книги Ципфа дается сравнительный смысловой анализ 160 коротких фраз, содержащих одно и то же слово good. Вот три фразы, взятые из этого списка:
Легко видеть, что во всех этих фразах слово «хороший» имеет совсем разный смысл: хороший лимон должен быть кислым, хорошая земляника, наоборот, не должна быть кислой, а хороший нож должен быть острым, что не имеет никакого отношения ни к качеству лимона, ни к качеству земляники. Заканчивает свою книгу Ципф утверждением, что есть вариации в значении термина «хороший», но они всегда ассоциируются с ответом на вопрос, отражающий нашу определенную заинтересованность. Мы бы добавили, что здесь опять наблюдается нелинейность языка: смысл слова «хороший» проявляется во взаимодействии с вопросом, на который мы хотим ответить. В трудах представителей «лингвистической школы» всегда или почти всегда можно встретить резкое противопоставление их взглядов взглядам логиков и «логических семантиков». Но уже у Стросона [Strawson, 1956] мы находим сомнение в том, нужно ли рассматривать как две враждебных стороны мыслителей, пытающихся построить искусственный язык, и мыслителей, занимающихся анализом естественного языка; в какой-то степени они дополняют друг друга, поскольку цель здесь одна: анализ языка. Нам кажется, что надо пойти дальше и сформулировать проблему шире. Нужна модель языка, отражающая как его многогранность и алогичность, так и его логическую структуру. Эти две, казалось бы, диаметрально противоположные тенденции, соединяясь в каком-то малопонятном взаимодействии, собственно, и создают наш обыденный язык во всем его многообразии. И вряд ли можно достигнуть успеха, изучая две эти тенденции раздельно и независимо одна от другой. 2. Полиморфизм языка и теорема ГёделяНам представляется, что в работах по «анализу языка» интересны не столько те или иные конкретные результаты и даже не разработанные для этого методы лингвистического анализа, а некоторые общие суждения о языке, которые, следуя Геллнеру [1962][*3], можно назвать концепцией полиморфизма языка. Термин «полиморфизм» надо, пожалуй, признать удачнее широко применяемого в лингвистической литературе термина «полисемия», так как здесь будет идти речь не только о многозначности слов, но и об общей нерегулярности языка. Многообразие обыденного языка объявляется его самым существенным признаком. Это теперь отнюдь не показатель его ущербности. Естественный язык именно в силу его полиморфизма богаче всякого искусственно создаваемого языка – так может быть сформулирован ответ английских аналитиков логическим позитивистам. Для усиления этого почти очевидного утверждения можно привлечь знаменитую теорему Гёделя о неполноте. Здесь, конечно, речь будет идти не о доказательстве в строгом смысле этого слова, а только о некоторой аналогии, которая представляется нам достаточно интересной и глубокой. Теорема Гёделя имеет очень большое гносеологическое значение. Она завершает собой целую эпоху глубокой и безусловной веры в жесткий детерминизм в сфере логики – той веры, последним большим всплеском которой и было появление логического позитивизма. Основой научного мировоззрения является уверенность в необходимости верификации гипотез. Тщательный анализ логической содержательности самого принципа верификации, предпринятый за последнее время, показал, что там далеко не все обстоит благополучно, если мы даже ограничимся только естественными науками (об этом см. подробнее в [Popper, 1965]). Верифицируемость мы, по существу, должны заменить фальсифицируемостью: единственное, что мы можем сделать, – это показать, что выдвинутая нами гипотеза не противоречит результатам наших наблюдений. Но если рассматриваемая гипотеза не может быть фальсифицирована, то отсюда еще не следует, что нельзя будет выдвинуть другой, может быть, и более сильной гипотезы, которая также не будет противоречить наблюдениям. Сколь бы много ни было у нас наблюдений, подтверждающих нашу гипотезу, их всегда недостаточно для того, чтобы безоговорочно признать ее. В то же время один отрицательный результат достаточен для того, чтобы опровергнуть гипотезу. В условиях такой неприятной логической асимметрии приходится вводить систему соглашений, сформулированных на теоретико-вероятностном языке, для того чтобы суметь оценить степень надежности наших гипотез (подробнее об этом см. в гл. II нашей книги [Налимов, 1971а]). Еще сложнее обстоит дело с проблемой верификации в математике. Ядром математических построений являются математические структуры – системы аксиом, богатые своими логическими следствиями [Бурбаки, 1963]. Задача верификации здесь обязательно требует проверки внутренней непротиворечивости этих структур. Вопрос о внутреннем соотношении аксиом беспокоил математиков еще с древних времен, сразу же после появления аксиом Евклида – первой хорошо известной нам математической структуры. Много тщетных усилий было затрачено, чтобы вывести пятый постулат из основных постулатов. Но после появления неевклидовых геометрий вопрос уже встал иначе – нужно было показать и их внутреннюю непротиворечивость. Вначале математики ограничились относительным доказательством непротиворечивости. Использовался метод математического моделирования. В системе старых, если хотите, общепризнанных математических структур нужно было построить модели (интерпретации), на которых выполнялись бы аксиомы новых структур. Одна система математических построений интерпретировалась с помощью другой. Например, удалось показать, что плоскость в геометрии Римана моделируется поверхностью сферы в трехмерном евклидовом пространстве, и таким образом постулаты Римана превратились в теоремы евклидовой геометрии. Далее было показано, что евклидовы постулаты выполняются на некоторой алгебраической модели и, следовательно, непротиворечивы, если непротиворечива алгебра. Вопрос о непротиворечивости в математике приобрел особую остроту после того, как были обнаружены противоречия в канторовской теории множеств, которая использовалась для обоснования математического анализа. В начале нашего века (в 1904 г.) знаменитый немецкий математик Гильберт принимается за проблему доказательства абсолютной непротиворечивости арифметики, признавая недостаточность относительных доказательств, когда одна система математических построений моделируется в другой. Позднее, в течение 1920–1930-х годов, Гильберт и его школа публикуют ряд работ, где были получены некоторые частные результаты, из которых, как показалось тогда, следует непротиворечивость не только арифметики, но и теории множеств. Но вот в 1931 г. Гёделем была опубликована его знаменитая работа О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematicas и родственных системах, из которой следовала несостоятельность упомянутых попыток Гильберта и его школы. Речь здесь идет о некоторых определенным образом устроенных логических системах. В них аксиомы рассматриваются как некоторые строки символов, а правила вывода – как способы получения строк из строк. На правила вывода накладываются два требования: они должны быть строго детерминированными и финитными. Это значит, что здесь используются вполне однозначные правила и что при их применении не приходится прибегать к трансфинитной индукции – приему, при котором нужно обращаться к трансфинитным числам, появляющимся при обобщении порядковых чисел на бесконечные множества, – и вообще к «нефинитным» методам (например, к известному «правилу Карнапа»). Мы, конечно, не будем здесь приводить доказательство теоремы Гёделя (строго говоря, речь должна идти о двух теоремах, но вторая из них является следствием первой), оно достаточно сложно. Ему предшествуют сорок шесть определений и несколько вспомогательных теорем. Попытки весьма простого доказательства теоремы Гёделя даны в [Нагель, Ньюмен, 1970] и [Арбиб, 1968]. Упомянем здесь лишь совсем коротко о том, что в доказательстве этой теоремы большую роль играет арифметизация математики, которую принято называть гёделевской нумерацией. Здесь каждое математическое высказывание кодируется арифметической формулой. Изучение математических высказываний сводится к исследованию арифметических соотношений. Из результатов Гёделя следует, что обычно используемые непротиворечивые логические системы, на языке которых выражается арифметика, неполны. Существуют истинные утверждения, выразимые на языке этих систем, которые в таких системах доказать нельзя. Далее, невозможно, оказывается, доказать непротиворечивость формализованной логико-арифметической системы средствами, которые были бы выразимы в этой же системе. Из этих результатов следует также, что никакое строго фиксированное расширение аксиом этой системы не может сделать ее полной – всегда найдутся новые истины, выразимые ее средствами, но не выводимые из нее. Основываясь на теореме Гёделя, можно сделать ряд высказываний общеметодологического или, если хотите, гносеологического характера. Прежде всего из этой теоремы следует, что нельзя дать формализованного определения понятию доказательства в математике. В процессе развития математики появляются новые, ранее не предусмотренные приемы доказательства. Далее, в упомянутой выше книге Нагеля и Ньюмена [1970] содержится утверждение о невозможности построения думающих машин, поскольку программы, задаваемые ЭВМ, всегда строятся на строгой логике. Общий вывод, следующий из теоремы Гёделя, – вывод, имеющий громадный философский смысл, – может быть сформулирован так: мышление человека богаче его дедуктивной формы[*4]. Мы не знаем, в чем в действительности состоит «процедура» мышления человека. Но мы хорошо знаем, что на уровне коммуникации при общении друг с другом люди широко используют формальную логику. В нашей повседневной речи, не говоря уже о языке науки, мы легко можем проследить логическую структуру, об этом мы уже немного говорили выше. И здесь немедленно возникает вопрос: в чем же тайна нашего языка? Почему логическая форма коммуникации не подавляет каких-то, может быть и не понятых нами, но, несомненно, значительно более богатых форм мышления человека? Как преодолевается гёделевская трудность в нашем языке? Концепция полиморфизма является ответом на эти вопросы. Нечеткие и неотчетливые по своему смыслу слова с неровными краями областей их значений, неясность разграничительных линий между понятиями, их многообразие и пестрота – все это создает возможность для нарушения строго дедуктивных форм мышления, при этом такое нарушение происходит в вежливой форме, не вызывающей раздражения у собеседника. Рассуждения человека должны быть, с одной стороны, достаточно логичными, т. е. они должны базироваться на дедуктивной логике, с другой стороны, они должны быть построены так, чтобы допускались логические переходы типа индуктивных выводов и правдоподобных заключений, не укладывающихся в строгую логику системы постулатов и правил вывода (иначе система будет тавтологической). Полиморфизм языка – это один из способов допущения «нестрогости» логики при «внешнем» сохранении видимости дедуктивной строгости: он позволяет вводить в нашу систему суждений ту «рассогласованность», без которой она была бы неполна. Последнее относится даже к высказываниям на языке математики – напомним здесь еще раз утверждение, вытекающее из теоремы Гёделя: «Если (формальная) арифметика непротиворечива, то она неполна». Вероятно, та же мысль образно выражена в словах: «…четкость и чрезмерная строгость языка ведет к интеллектуальным судорогам» [Геллнер, 1962]. Полиморфизм языка позволяет сделать нашу систему коммуникаций негёделевской [Налимов, Мульченко, 1972[*5] . И в то же время мы понимаем, что внутренняя рассогласованность суждений, создаваемая полиморфизмом языка, не должна заходить слишком далеко, иначе возникнет ситуация психиатрической больницы. Граница допустимой нестрогости устанавливается как-то сама собой. Ниже мы покажем, что наш обыденный язык занимает некое промежуточное положение на той семантической шкале, на одном конце которой находится жесткий язык с четко обусловленными значениями символов, а на другом – мягкие языки с совершенно произвольной связью знака с означаемым. И на этой шкале наш обыденный язык не занимает строго фиксированного положения – он охватывает широкую область. Не нужно закрывать глаза и на то, что за многозначность языка людям приходится дорого платить. Часто возникают совсем нелепые споры из-за различного толкования значения одного и того же слова, хотя, впрочем, это, может быть, и есть необходимая составная часть творческой деятельности людей – та ее часть, которую мы не умеем запрограммировать, пытаясь создать искусственный интеллект. Нам представляется, что построить интересную систему мыслитель может, только используя необычным образом обычные слова[*6]. Своеобразной моделью языкового поведения являются игры, включающие случайную составляющую. Одна из них – это игра в карты. Когда где-то, скажем в вагоне поезда, встречаются незнакомые люди разной интеллектуальной направленности, то у них появляется желание заменить языковое поведение его упрощенной моделью – игрою в карты. В карточных играх имеются строгие правила и хорошо разработанные стратегии, применяемые в случайных ситуациях. Эти правила действуют подобно правилам логики в нашем языке: их нельзя нарушить, иначе вы будете играть не в эту, а в другую игру [Vendler, 1968]. Генератором случая здесь является тасование карт. Случайность в сочетании со сложной системой правил делает игру интеллектуально насыщенной, напоминающей речевое поведение, где случайность задается полиморфизмом языка. И вот что важно: наше речевое поведение, так же как и карточная игра, должно иметь альтернативы, иначе все превратится в фарс, в разгадывание шарады и будет столь же скучным и грустным, как судебный процесс с заранее предрешенным исходом [Геллнер, 1962]. Элемент случайности входит в наше речевое поведение, накладываясь на логическую структуру. 3. Бейесовская модель языкаПопробуем теперь построить модель языка, содержащую в явной форме вероятностную структуру смыслового содержания знака. Здесь нам прежде всего надо сказать несколько слов о теореме Бейеса[*7]и необейесовском подходе к обоснованию правил вывода в современной математической статистике. Основная идея здесь заключается в том, что, принимая какое-либо решение после того или иного эксперимента, мы всегда используем как вновь полученные знания, так и предыдущие знания об изучаемом явлении. До постановки опыта у исследователя всегда есть какие-то знания, которые могут быть выражены на вероятностном языке, – мы можем это назвать априорной вероятностью, или, иначе, субъективной, или персональной, вероятностью[*8]. Теорема Бейеса позволяет формализовать процесс принятия решения, моделируя такую процедуру, в которой используется как априорная информация, так и информация, полученная из опыта, ответ выдается в вероятностных терминах в виде апостериорной вероятности. Поясним смысл этого приема в обычных статистических терминах. Допустим, что производится измерение величины μ для некоторого объекта Н. Имеется пространство Y всех возможных результатов измерений у. На этом пространстве задана вероятность р(у/μ). В простейшем случае это просто функция нормального распределения для ошибок наблюдений при измерении объекта Н. Далее будем считать, что нам известна априорная вероятность р(μ), т. е. априори – до проведения опыта – нам что-то известно о распределении всех возможных значений μ. Тогда теорему Бейеса можно записать следующим образом: р(μ/у)= k р(у/μ) р(μ), где k – константа, получаемая, как обычно, из условий нормировки. Вводя в рассмотрение априорную информацию, мы как бы задаем вход в систему, а затем, пользуясь теоремой Бейеса, образуем разумным образом (используя аксиому об умножении вероятностей) выход из системы, который записывается в виде апостериорной вероятности р(μ/y). Вся трудность этого подхода заключается в понимании того, чтó значит априорная вероятность р(μ), об этом много написано (см., например, [Good, 1962], [Wright von, 1962]). Во всяком случае ясно, что человек как в своей научной, так и в повседневной деятельности постоянно оценивает вероятности различных событий. Эти оценки всегда субъективны в том смысле, что они определяются интеллектуальной настроенностью данного субъекта и степенью его информированности, но они в каком-то смысле и объективны, или, может быть, лучше сказать – всеобщи, поскольку предполагается, что приходится иметь дело с разумными наблюдателями, настроенными в какой-то степени одинаково. Важно здесь другое: если субъективная вероятность какого-либо события как-то оценена, то с нею можно поступать так же, как с вероятностью, введенной в математике, полагая, что она обладает теми же свойствами и подчиняется тем же постулатам. Если априори мы ничего не знаем о характере распределения р(μ), то наше незнание можно выразить, приняв равномерное (на прямой) распределение всех значений μ. В этом случае, как нетрудно видеть, апостериорное распределение сведется в статистических исследованиях к исходному распределению ошибок измерения р(у/μ), построенному относительно найденного в эксперименте значения ý (коэффициент k при этом будет равен единице). Мы получим в конце концов измеренное значение ý с теми же двух- или трехсигмовыми границами, что и и традиционной статистике. Все различие сводится лишь к обоснованию. И это различие оказывается очень глубоким. Оно позволяет избежать тех затруднений, с которыми приходится сталкиваться в традиционной статистике, когда доверительные границы задаются еще до того, как сделано измерение; ведь действительно непонятно, почему они должны всегда сохранять свою силу и после того, как измерение выполнено. Иллюстрируем возникающие здесь логические затруднения одним примером. Допустим, что речь идет об измерении предельно малых содержаний веществ в пробе [Славный, 1969]. На первый взгляд кажется естественным принять за пороговый сигнал (граница обнаружения) величину ý >= 3s (критерий Кайзера), где s – квадратичная ошибка, характеризующая флуктуацию фона. Получается простое правило принятия решения: вещество в пробе не обнаружено, если ý < 3s. Но мы здесь не используем всей информации, содержащейся в наблюдениях. В частности, мы не придаем никакого значения тому факту, что для какой-то пробы было получено значение ý < 0, хотя заранее знаем, что содержание вещества в пробе не может быть меньше нуля. Отрицательные значения могли бы служить еще и основанием для утверждения о том, что действительное содержание вещества в пробе ниже некоторой величины, значительно меньшей трехсигмовой границы обнаружения. Вся трудность здесь заключается в том, что, пользуясь традиционными методами математической статистики, мы не можем построить нормальной функции распределения вокруг значения ý, когда ý < 3s, не попав в область отрицательных значений сигнала, что уже, конечно, не имеет физического смысла. Все существенно упрощается при бейесовском подходе. В правило принятия решений надо ввести априорное утверждение о невозможности отрицательных значений концентрации, а дальше признать равновероятностными все положительные значения сигнала (конечно, в некоторых границах). Тогда на выходе решающей системы мы естественным образом получим апостериорные вероятности. В случае равномерного апостериорного распределения задача, в конечном счете, сведется просто к перенормировке – к единице будет приравниваться часть площади под тем участком кривой дифференциальной функции распределения, которому соответствуют положительные значения сигнала; графически это показано на рис. 2[*9]. В практической работе, конечно, разумнее в качестве распределения брать не равновероятное, а некоторым образом затухающее распределение, но это уже деталь, на которой мы здесь останавливаться не будем. Приведенный выше пример показывает, как бейесовский подход позволяет избежать логически необоснованного приема —
Классическое решение задачи: а – функция распределения ошибки измерения, известная экспериментатору до проведения данного измерения; б – построение 95%-ных доверительных границ для результатов измерения путем центрирования функции распределения а относительно нового результата измерения ýc(оказывается, что мы с большой вероятностью должны допустить существование отрицательных концентраций вещества). Бейесовское решение задачи: в – блок-схема бейесовского решения; г – априорная функция распределения для содержания вещества в пробе (здесь принята гипотеза о почти полном априорном незнании; невозможность существования отрицательных концентраций – это единственное, что нам известно); д – апостериорная функция распределения р(μ/у), полученная путем умножения априорной функции распределения г на функцию распределения ошибок измерения б, полученную при измерении данной пробы. приписывания результатам измерения тех доверительных границ, которые были предложены статистиком до проведения измерения. И что здесь для нас особенно важно – новую процедуру оценивания результатов измерения удалось построить только на основании использования предыдущих знаний. Новый алгоритм принятия решения нам представляется вполне естественным – он как бы моделирует наше повседневное поведение, в котором мы, принимая решение, всегда как-то объединяем наши предыдущие знания с новыми, полученными из последнего опыта. Здесь, может быть, надо оговориться: конечно, и в рамках классической статистики можно преодолеть логические трудности с установлением доверительных границ для очень малых концентраций. Но это нельзя сделать так же изящно, как получается при бейесовском подходе. Вернемся теперь к семантическому анализу знаковых систем. Основное наше утверждение может быть сформулировано следующим образом: как в обыденном языке, так и во многих других языках с каждым знаком вероятностным образом связано множество смысловых значений. Можно говорить об априорной функции распределения смысловых значений знака. Это распределение может быть построено, скажем, так: приемник имеет в своем сознании некоторое представление о возможных смысловых значениях знака, одни из них имеют бóльшую вероятность появления, другие – меньшую и т. д. Все это может быть представлено функцией распределения, построенной так, что по оси абсцисс отложены ранги смысловых значений, установленные по вероятности их появления, по оси ординат отложены сами вероятности. Шкала абсцисс может мыслиться и как непрерывная – смысловыми единицами могут быть нечетко разграниченные участки этой шкалы, так же, как, скажем, нечетко разграничены цвета на волновой шкале для спектра белого света. Если мы посмотрим на словари – толковые или двуязычные, то увидим, что каждому слову, находящемуся на «входе» словаря, дается несколько, иногда даже много, разъяснительных текстов. Эти разъяснительные тексты обычно упорядочиваются по силе их связи со словом на входе. Таким образом, представление о функции распределения смыслового содержания слова в неявном виде оказывается заложенным в структуре наших словарей. Там смысловое содержание знака представлено в виде семантического поля, элементы которого упорядочены по линейной шкале. Мы хотим это упорядочивание усилить, приписав участкам смысловой шкалы вероятности, с которыми они ассоциируются со знаком. Эти вероятности возникают в сознании приемника-субъекта, и потому соответствующие им функции распределения могут быть названы априорными, или, как еще иногда говорят, субъективными, или персональными[*10]. Два примера такого упорядоченного представления семантического поля даны на рис. 3. При составлении функций распределения здесь использовались как результаты анализа слов «игра» и «читать», приведенные в Исследованиях Витгенштейна [Wittgenstein, 1953], так и данные, приведенные в толковых словарях Вебстера и Даля. Ясно, что у лица с другой интеллектуальной настроенностью эти функции распределения могут оказаться совершенно иными, особенно это относится к слову «игра». Легко представить себе человека, для которого это слово будет ассоциироваться прежде всего с представлением об азартных играх и уж никак не будет связано с одним из разделов математики. Эта априорная вероятность создает вход в систему восприятия читаемого текста. Процесс чтения, понимаемый здесь в широком смысле как некоторая процедура восприятия текстов, образованных из тех или иных знаков, позволяет образовать функцию распределения р(у/μ); она задается многими факторами: способом комбинирования читаемого знака с другими знаками фразы, и общей эмоционально-интеллектуальной настроенностью «приемника», и его внимательностью в момент чтения. Последние два обстоятельства вносят тот же элемент неопределенности, что и ошибка в обычных физических измерениях. Во всяком случае, об ошибках семантического восприятия знака можно говорить так же, как и об ошибках в любых других измерительных процедурах, и здесь столь же естественно вводить представление о функции распределения. Аналогия здесь может быть продолжена сколь угодно далеко. Представьте себе, скажем, что вы делаете спектрохимическое определение какого-либо элемента в сложной по своему составу пробе. Ошибки анализа прежде всего будут зависеть от общего состава пробы и от того, в каком физическом состоянии проба находится; далее, они будут зависеть и от внимательности лаборанта, и от неизбежной невоспроизводимости всех элементарных измерительных процедур.
На выходе системы мы будем иметь апостериорную функцию распределения р(μ/у), после чтения у нас будет связано с прочитанным знаком опять-таки не одно значение, а поле значений, элементы которого опять будут упорядочены некоторым вероятностным образом. В частном случае полного априорного незнания (или априорного безразличия) функция р(μ) будет просто равно мерным распределением (на прямой) и тогда р(μ/у) сведется к р(у/μ), но вряд ли это может быть, когда «приемником» является человек. Если для «приемника» и «передатчика» р(μ) более или менее одинаковы, то процесс чтения будет вносить только случайные искажения. Но может оказаться, что «приемник» и «передатчик» вкладывают совершенно разный смысл в знаковую систему. В какой-то степени это, по-видимому, происходит в современной философии на Западе, что и явилось одним из факторов, породивших критические настроения «аналитиков», о которых мы упоминали выше. В еще большей степени это имеет место в абстрактной живописи, о чем речь будет идти ниже. В обыденной жизни обычно встречаются люди одного круга, и у них есть какая-то согласованность в отношении априорных функций распределения. Но бывает иначе. И чем интереснее вновь высказываемая мысль, тем необычнее оказывается у «передатчика» априорная функция распределения, связанная с используемыми им знаками, – ведь, говоря о новом, он использует старые знаки[*11]. Разные люди могут и по-разному читать знаки. Расхождение в результатах чтения одного и того же текста разными людьми, по-видимому, всегда больше, чем ошибка понимания при повторном чтении одного и того же текста одним и тем же человеком. То же самое происходит и с физическими измерениями: ошибки межлабораторной воспроизводимости всегда оказываются больше ошибок внутрилабораторной воспроизводимости. Любопытно отметить, что, проводя физические исследования и используя необейесовский подход, различные наблюдатели могут задаться различными априорными вероятностями. Особенно это бросается в глаза в задачах по дискриминации гипотез, когда из многих конкурирующих гипотез нужно выбрать одну, и в задачах по уточнению параметров. При этом неудачный выбор априорных вероятностей не приводит к сколь-нибудь большим неприятностям. Как общетеоретические соображения, так и расчеты, выполненные на модельных задачах, показывают, что бейесовская система принятия решений обладает короткой памятью в системе последовательных процедур, – неверно выбранные априорные вероятности быстро забываются после нескольких вновь поставленных экспериментов. То же самое, по-видимому, происходит и при чтении текстов. Представьте себе, что у «приемника» оказалась априорная функция распределения, отличная от того, что имел в виду «передатчик». Читая внимательно несколько раз один и тот же текст или, еще лучше, различные тексты того же автора или той же группы авторов, «приемник» сможет хотя бы в какой-то степени перестроиться. Это процесс обучения с забыванием старой информации. Но всегда ли он происходит? Для этого нужно, чтобы «приемник» не был слишком консервативен. Во всяком случае, здесь априорная информация понимается не в кантовском смысле, а так, как это сейчас принято в математической статистике: по отношению к (n+1)-му опыту априорной будет информация, полученная в n-м опыте. Изложенная выше модель исходит из глубокой аналогии, существующей между процессом измерения и его интерпретацией, и процессом чтения знаковой системы. Она может быть противопоставлена известной концепции логического атомизма Фреге, Рассела и раннего Витгенштейна (см., например, [1958]). Логическим атомам – элементарным и неделимым частицам смысла – мы противопоставляем непрерывную функцию распределения смысловых значений, и это противопоставление идет еще дальше – мы полагаем, что смысл не может быть приписан знаку до прочтения текста, хотя и имеем некоторое априорное представление о смысловом поле знака, точно так же, как нельзя измеренному значению в физическом эксперименте приписать те доверительные границы, о которых мы имели представление до эксперимента. Аналогию с физическим экспериментом можно продолжить. Если мы имеем дело с непрерывно изменяющейся случайной величиной, то вероятность того, что мы при измерении попадем в строго фиксированную точку, равна нулю. Таким же вырожденным случаем будет представление о некотором единственном и строго фиксированном значении знака. Наша модель может быть противопоставлена и высказываниям позднего Витгенштейна. В «Исследованиях» есть известная фраза о том, что смысл слова задается его употреблением. В нашей модели процесс восприятия слова задается как его употреблением, которое прочитывается как функция распределения Сказанное можно иллюстрировать примером из книги польского фантаста Станислава Лема Звездные дневники Ийона Тихого [Лем, 1961]. В этой книге встречается несколько слов неземного происхождения. Одно из них – «сепульки». Вот что сказано об этом слове в «Космической энциклопедии»:
Далее приводится диалог:
Здесь мы видим, как пространный и логически правильно построенный текст оказывается недостаточным для понимания смысла чуждого нам слова. В нашем распоряжении нет того множества смысловых значений μ, на котором можно было бы построить функцию распределения р(у/μ). Мы не можем не только понять, но даже и смутно уловить смысл слова, если с ним не связана какая-то априорная функция распределения. Логически корректное его употребление не раскрывает еще его смысл. Если принять бейесовскую модель восприятия знака, то мы должны будем признать, что после прочтения текста в нашем сознании будет запечатлено не какое-то дискретное смысловое значение, связанное с прочитанным знаком, а целое поле значений, но в общем случае оно будет ýже того значения, которое было связано с этим знаком до чтения данного текста. Бейесовскую модель можно интерпретировать как некоторую многозначную вероятностную логику, ответ на поставленный текстом вопрос здесь задается функцией распределения смыслового содержания. В рамках предложенной нами модели легко интерпретируются многие хорошо известные в лингвистике факты. Прежде всего мы можем поговорить о том, что значит столь широко распространенное в литературе по научной терминологии представление о точности термина. Снаших позиций это вполне четкое понятие, оно определяется просто степенью размазанности априорной функции распределения р(μ), связанной с научным термином μ. Всем хорошо известна проблема синонимии – это одна из характеристик полиморфизма языка. В то же время остается неясным, что, собственно, мы понимаем под этим термином. В этом отношении очень интересно высказывание Найда [Nida, 1965]. Он вообще отрицает существование синонимов, утверждая, что никакие морфемы или их комбинации никогда не являются идентичными по заложенному в них смыслу. Всегда можно привести пример, в котором общепризнанные синонимы оказываются неэквивалентными. Особенно легко это сделать, если обратиться к пословицам. Например, в пословице «На всякого мудреца довольно простоты» слово «мудрец» нельзя заменить словом «умница», хотя эти слова считаются синонимичными по словарю синонимов [Александрова, 1971]. В системе наших представлений синонимия задается просто коэффициентом ранговой корреляции между смысловыми значениями двух разных слов. О смысловой согласованности нескольких слов аналогичным образом можно судить по хорошо известному в непараметрической статистике понятию коэффициента конкордации. И здесь сразу становится ясным, откуда возникают трудности в определении того, что такое синонимы. Вряд ли, действительно, ранговые упорядочивания смыслового значения двух разных слов полностью идентичны, и поэтому высказывание Найда надо понимать в том смысле, что нет синонимов, для которых коэффициент ранговой корреляции был бы равен единице. По-видимому, мы считаем синонимами слова, для которых коэффициент ранговой корреляции их смысловых значений не очень мал, т. е., говоря на языке математической статистики, он должен быть значим для какого-то заранее выбранного уровня значимости. И кроме того, мы не должны забывать, что априорные функции распределения субъективны и всегда нужно учитывать какое-то усредненное смысловое ранжирование, характеризующее семантическое поведение целых групп людей. Но, тем не менее, можно думать, что все происходит в жизни так, как предписывает рассматриваемая нами модель, и как-то спонтанно устанавливается четко нигде не зафиксированный уровень значимости для коэффициента корреляции, позволяющий нам признавать некоторые слова синонимами. Мы попытались провести количественное изучение частоты появления синонимических групп разного размера в словарях синонимов русского и английского языков. Подсчитывалась частота встречаемости групп, состоящих из двух, трех и большего числа синонимов, в словарях [95, 96]. Графически полученные результаты представлены на рис. 4. Отличие в функциях распределения получилось разительное. Мы, конечно, не уверены в том, что авторы этих двух словарей опирались на один и тот же уровень значимости для коэффициента корреляции.
По оси абсцисс отложено число слов, входящих в синонимическую группу, по оси ординат – частота появления таких групп в словарях синонимов [Александрова, 1971] и [Webster, 1942]. Прежде всего, вызывает удивление очень большое различие в числе входных слов в словарях. Словарь русского языка составлен для 8322 входных слов, английского – для 1954. Для английского словаря имеется отчетливое сгущение частот для слов с небольшим числом синонимов от одного до пяти и затем кривая довольно быстро начинает резко падать; максимальное число синонимов 15. Функция распределения для русского словаря растянута: имеются слова, для которых насчитывается более двадцати синонимов, максимальное число синонимов 59. Что это – реальное различие в семиотической структуре двух языков или просто результат различного подхода к тому, что считать синонимом? Во всяком случае, определение синонима в обоих словаряхсформулировано так, что невозможно понять, имеется ли у авторов существенное различие в подходе к этому вопросу. Нам кажется, что статистическое изучение синонимии разных языков, если бы его удалось хорошо организовать, могло бы быть очень интересным. Здесь хочется обратить внимание на работу А.П.Клименко [1976], в которой делалась попытка оценить смысловую близость слов, обозначающих явления погоды, в прямом психологическом эксперименте. Оценка делалась по одиннадцатибалльной системе (от 0 до 10). Высокосинонимичными оказались такие пары слов:
они отмечаются как синонимы и в словаре З.Е.Александрова. Бейесовская модель позволяет нам понять природу шутки. Поясним это следующим примером. Как-то мне пришлось выступать в одной биохимической лаборатории с сообщением о том, как нужно было бы организовать обучение математической статистике работников этого профиля. Свое выступление я начал с рассказа о том, как сама постановка этой задачи возникла во время беседы за обедом в нашей столовой. После обстоятельного обсуждения этой задачи мы услышали заключительную реплику одного из участников: «Теперь можно сделать такой вывод: надо улучшить обслуживание в нашей столовой». Эта реплика вызвала оживление в зале. Но один математик, опоздавший к началу моего выступления, встал и с растерянным видом спросил, что это значит – может быть, он ослышался. Но когда ему объяснили, он тоже начал смеяться. Что же здесь произошло? После моего выступления у всех присутствующих со словом «столовая» с какой-то очень малой вероятностью ассоциировалась еще и задача обучения биохимиков математической статистике. После заключительной реплики в соответствии с теоремой Бейеса апостериорная функция распределения, связанная со словом «столовая», стянулась к тому смыслу этого слова, которое было совсем слабо ассоциировано с ним в априорной функции распределения. Это всех шокировало и вызвало приятное возбуждение. А у математика, пропустившего мое вступительное замечание, этой дополнительной слабой ассоциации в априорной функции распределения не было, и он шутки сначала не понял. Человек устроен так, что он не любит серого речевого поведения, оно его утомляет. Шутка, нарушающая однообразие речи, заключается в неожиданном переводе мало вероятных ассоциаций в доминирующие. Шутки основаны на использовании хвостовой части априорной функции распределения. Чтобы понимать шутки, надо иметь далеко растянутую хвостовую часть. Чтобы уметь шутить, надо уметь ею пользоваться. У людей, не понимающих шутку, априорная функция распределения рано усекается – они могут использовать только те значения смыслового поля слова, которые ассоциируются с данным словом с большой вероятностью. Многие шутки основаны на том, что фраза построена так, что одному и тому же слову с одинаковой вероятностью могут быть приписаны два совсем разных смысла. Представьте себе, что априорная функция распределения смысла слова р(μ) устроена так, что есть острый максимум где-то в левой части оси μ, а функция правдоподобия р(у/μ) устроена так, что у нее острый максимум находится где-то в правой части оси μ, где значения р(μ) близки к нулевым. Тогда перемножение этих функций, естественно, приведет к тому, что функция апостериорного распределения смысла слова р(μ/у) окажется двумодальной. Два совершенно различных смысла слова получают одинаковую вероятность – это может выглядеть совсем нелепо. На этом основаны все пикантные анекдоты. Мы, к нашему большому огорчению, не можем здесь привести такого примера, который был бы и достаточно острым, и вполне приемлемым для печати. Ограничимся примером, в котором в шутку было обращено понимание второго смысла слова. В магазине я был свидетелем следующего разговора:
Здесь продавщица разъяснила покупателю бейесовскую модель понимания смысла фразы «не бывает», когда она произносится в магазине. Бейесовская модель может объяснить механизм понимания «неполных» фраз. Рассмотрим в качестве примера две такие часто употребляемые неполные фразы:
Первая из них обычно бывает написана крупными буквами на зданиях вокзалов. Все понимают ее смысл, хотя, строго говоря, она неправомерна из-за своей неполноты. Ясно, что кассы сами по себе никуда вообще не следуют. Правильно написанная фраза должна была бы звучать примерно так: «Касса для продажи билетов на поезда дальнего следования». Но такая запись воспринимается как чрезмерно громоздкая. Вторая фраза постоянно употребляется в научной литературе по спектроскопии. Строго говоря, ее надо было бы интерпретировать так: перед нами спектрограф ультрафиолетового цвета. Но это явная нелепость, хотя аналогично построенную фразу «Белый спектрограф» мы интерпретировали бы как спектрограф белого цвета. Понимание смысла неполных фраз задается бейесовским чтением. Для слова «спектрограф» у нас есть достаточно богатая априорная функция распределения смыслового содержания. Сочетание этого слова со словами «ультрафиолетовый» дает возможность построить функцию распределения р(y/μ), действующую как некий фильтр, который выделяет из априорной функции распределения смыслового содержания р(μ) слова «спектрограф» приемлемый для нас смысл. Если бы перед нами была, скажем, такая фраза: «Ультрафиолетовый осел», – то смысл ее остался бы для нас неясным, хотя грамматически она построена так же, как и фраза, рассмотренная выше. Мы видим, что смысл неполных фраз раскрывается отнюдь не их грамматической структурой, а бейесовской процедурой перехода от широкого смыслового множества значений слова к некоторому его подмножеству. Это подмножество становится теперь тем полем элементарных событий, на котором перераспределяется вероятность осмысливания смысла слова в данном контексте. Любопытно отметить, что в более старом английском языке с его высокоразвитым полиморфизмом слов неполные фразы встречаются, несомненно, чаще, чем в сравнительно молодом русском языке, где до недавнего времени была явная тенденция к построению развернутых фраз. Отсюда, кстати, следует и тот хорошо известный факт, что при переводе с английского языка на русский текст всегда удлиняется, если его оценивать по числу печатных знаков. Впрочем, эта проблема подлежит специальному изучению. Поясним здесь сказанное одним примером. Название английской книги The New English Bible не вызывает какого-либо непонимания у англичанина – априорная функция распределения для слова «Bible» такова, что в сочетании со словом «New» это название может обозначать только новый перевод Библии. Но для русского читателя, даже знающего в какой-то степени английский язык, это название книги вызовет недоумение – согласно традиции русской лексики смысл этой фразы нужно было бы интерпретировать так: «Мы имеем дело с какой-то новой, на этот раз английской, библией». А такая интерпретация противоречит априорному смыслу слова «библия». На русский язык название упомянутой выше книги надо было бы все же перевести так: «Новый английский перевод Библии». В английском языке, несмотря на всю строгость его грамматики, допускается существование формально неправильных фраз. Например, языковым клише стали фразы такого типа «It is the last tram but one, the last one will go in an hour» [это предпоследний поезд, последний пойдет через час]. Если слову «last» приписать атомарный точечный смысл, то фразу придется признать логически неправомерной, так как тогда пришлось бы признать невозможным существование в языке фразеологизмов. Если же считать, что слово имеет размытое значение, включающее не только что-то безусловно последнее во временнóм ряду событий, но нечто стоящее близко к концу последовательности, тогда ясно, что словосочетание «but one» позволяет из размытого поля значений слова «last» выделить то его подмножество значений, которое воспринимается как «предпоследний». Рассмотрим теперь проблему перевода. Допустим, что нам надо перевести какой-то текст с μ-языка на η-язык. Опыт перевода показывает, что каждому содержательному слову μ-языка можно поставить в соответствие несколько на первый взгляд эквивалентных слов на η-языке. Это значит, что рассматриваемое слово μi имеет поле смысловых значений, которое полностью или хотя бы в большей своей части пересекается со смысловыми полями некоторого k-подмножества η1 η2, ..., ηk слов η-языка. Отсюда, казалось бы, можно было дать следующую рекомендацию: выбрать из k-подмножества то слово, которое имеет наибольший ранговый коэффициент корреляции со словом μi. Но эта рекомендация на самом деле не правомерна. Может оказаться, что фраза на μ-языке построена так, что в слове μi используется та хвостовая часть функции распределения смыслового содержания, которой нет в словах k-подмножества η-языка. Чтобы убедиться в этом, надо воспользоваться бейесовским чтением. А дальше появляются две возможности. Первая – это подобрать на η-языке слово, в котором бейесовски понятое (для μ-языка) смысловое содержание входило бы с максимальной вероятностью (это слово может уже оказаться находящимся вне k-подмножества). Такой перевод будет представляться топорным переложением текста. Второй путь – это построить на η-языке фразу так, чтобы для передачи смысла, прочитанного на μ-языке, можно было бы также использовать только хвостовую часть смыслового содержания некоторого η-слова. Это будет перевод, отражающий не только смысл фразы, но и способ его преподнесения. Теперь представьте себе задачу диалога человека с ЭВМ. Логика разговора должна быть устроена так, чтобы машина понимала всю тонкость человеческой речи, а дальше переводила для себя текст на некоторый грубый язык, на нем «думала» и на нем же отвечала собеседнику. Это модель нашего разговора с иностранцами – они, разговаривая с нами, используют все многообразие своего языка, мы понимаем их, но, отвечая им на их языке, пользуемся только примитивными фразами. Отсюда парадокс – на иностранном языке легче говорить, чем его понимать: понимание требует владения всей сложностью языка. Технически, по-видимому, легче создать программы для диалога человека с машиной, чем для хорошего перевода. Перейдем теперь к обсуждению самого интересного вопроса – о построении системы логически связанных суждений на множестве знаков полиморфного языка. Как вообще можно строить логические конструкции, если слова имеют множество значений? Статистик, высказывая какие-либо суждения о случайных величинах, задает функции и их распределения параметрами: математическим ожиданием, дисперсией, асимметрией, эксцессом; правда, не всегда нужны все эти параметры, часто достаточно иметь дело с одним из них – математическим ожиданием, определяющим среднее значение случайной величины. В нашем речевом поведении при построении логических конструкций мы задаем функции распределения некоторыми усредненными значениями, которые обозначаются тем или иным словом. Это усредненное значение можно рассматривать как семантический инвариант слова. Логические конструкции могут быть построены на разном уровне абстракции. На низших уровнях абстракции усредненное смысловое значение очень существенно. На самых верхних уровнях мы оперируем со словами просто как со знаками, забывая об их усредненном смысловом значении. Слова в такой абстрактно построенной фразе играют роль «логических переменных». При обдумывании высказывания, заданного этой фразой, мы пытаемся дать смысловую интерпретацию словам, обращаясь к тому механизму, который задается априорной функцией распределения и теоремой Бейеса. Строго говоря, непосредственно логика может иметь дело только со знаками и только через них – опосредованно – с их значениями или смыслами. «В логическом синтаксисе значение знака не должно играть никакой роли: должна быть возможна разработка логического синтаксиса без всякого упоминания о значении знака» [Витгенштейн, 1958] (из парадокса 3.33). Эту ситуацию Черри [1972] иллюстрирует следующим силлогизмом:
Это пример понятного нам дедуктивного вывода, построенного над ничего не обозначающими словами (для них у нас нет априорных функций распределения смыслового содержания). Непонятные слова этого силлогизма мы воспринимаем как абстрактные символы, отдавая себе отчет в том, что как только будет дан ключ к их пониманию, то и весь силлогизм мгновенно будет интерпретирован. Прогресс логического мышления связан с переходом ко все более и более глубокой символизации, которую мы привыкли называть абстракцией. Язык становится, по меньшей мере, двухступенчатым. На одной ступени строятся логические высказывания над абстрактными символами. На другой ступени происходит интерпретация этих символов. Наиболее ярко эта двух- и даже многоступенчатая структура языка проявляется при описании физических явлений на языке математики. Выше мы уже говорили о глубокой связи между логикой и математикой. Принципиально любые осмысленные высказывания могут быть записаны на математическом языке, а любые математические высказывания могут быть интерпретированы как осмысленные, но практически это, конечно, очень трудно делать. Высказывания о физических явлениях на языке математики – это пример математической записи осмысленных (понимаемых) высказываний. Символы, которые при этом используются, имеют определенный физический смысл, но не столь четкий, как этого хотели потребовать неопозитивисты. На раннем этапе развития физический смысл символов играл очень большую роль в процессе построения математической теории физических явлений. Но постепенно, по мере прогресса физических знаний, абстрактность представлений стала углубляться. После того как над соотношениями, построенными из абстрактных символов, произведены некоторые, подчас весьма сложные логические операции, записанные на математическом языке, мы получаем новые соотношения, нуждающиеся в интерпретации на обыденном языке. Может быть поставлен один очень интересный вопрос: чем отличается современная тенденция к математизации знаний от программы неопозитивистов? В обоих случаях речь идет как будто бы об одном и том же – об усилении роли «вычислительного» и «исчисленческого» аппарата в самых разнообразных разделах знаний. Оказывается, для решения этой задачи в упомянутых двух случаях предлагаются совершенно различные подходы. Логические позитивисты хотели построить новый «совершенный» язык – со строго однозначным значением слов. Современная тенденция к математизации знаний направлена на построение аппаратов оперирования с символами, о смысле которых особого беспокойства не проявляется. Допускается возможность некоторой формализации знаний при сохранении сложившейся структуры языка науки. Строго говоря, в этом случае вводятся два языка. Один из них – язык математики, на котором строится система выводов над абстрактными символами. Другой – обыденный полиморфный язык науки, на котором интерпретируются высказывания, полученные в символической форме. Вероятностная модель языка может объяснить некоторые особенности речевого поведения психически больных людей – на это обратил мое внимание психофизиолог И.М.Фейгенберг. Можно полагать, что у людей, больных шизофренией, априорная функция распределения смыслового содержания слова имеет значительно более пологий характер, чем у здоровых людей, а иногда она идет, может быть, и просто почти параллельно оси абсцисс. Во всяком случае, те значения смыслового содержания слова, которые у здорового человека находятся где-то в далекой хвостовой части функции распределения, у больного возникают в сознании с такой же вероятностью, как и главные смысловые составляющие слóва, нарушается не логика, а семантика речи. Скажем, пациенту задают вопрос –
Такие ответы даются совершенно серьезно – без всякого оттенка юмора. Больные с таким речевым поведением вообще не воспринимают юмора, который, как мы уже говорили выше, связан с неожиданным использованием значений смыслового содержания слова. У больных функция априорного распределения смысла слова устроена так, что неожиданности просто не может быть. По мнению И.М.Фейгенберга, нарушения психики такого рода – это нарушение вероятностной упорядоченности в картотеке памяти. В психиатрии известно очень интересное, но редкое явление «второй жизни» пациента. Выздоравливая, больной возвращается к нормальной жизни, но при этом он избирает новую, интеллектуально менее сложную, профессию. При этом оказывается, что он не забыл свои прежние знания – они у него просто вероятностно разупорядочились. И.М.Фейгенберг развивает очень интересную концепцию вероятностного прогнозирования в поведении людей (см., например, его книгу [1972]). Представьте себе, что вы находитесь на вокзале, где радиоинформация работает плохо. И все же вы немедленно распознаете, когда произносится номер нужного вам поезда. Это бейесовское узнавание. Аналогично, когда мы слушаем радиопередачу на родном языке, то понимаем смысл текста даже при очень большой зашумленности, а понимание текста, произносимого на иностранном языке, требует уже очень высокого качества передачи. В последнем случае узнавание затруднено, так как в нашем сознании не появляется с достаточной быстротой, упреждающей темп передаваемой речи, альтернативный набор слов, из которых одно мы должны распознать в передаваемом тексте. Когда, регулируя приемник, попадаешь на иностранную передачу, то, прежде всего, хочется догадаться, о чем вообще идет там речь. Как только это удается сделать, так начинает работать, хоть в какой-то степени, механизм бейесовского узнавания. Вероятностное прогнозирование хорошо иллюстрируется известным опытом Шарпантье. Представьте себе, что перед вами два предмета одинакового веса, но существенно разного объема и сделаны они как будто бы из одного и того же материала. Здоровый человек, взяв в руки эти предметы, немедленно скажет, что меньший из них тяжелее – это шоковая реакция, ведь по внешнему виду он прогнозировал меньший вес у меньшего предмета. Если то же самое сделать с закрытыми глазами и поднимать предметы за привязанные к ним веревочки, то веса будут восприниматься как равные – в этом случае вероятностное прогнозирование отсутствует. Отсутствует оно и у больных шизофренией – они не скажут, что малый предмет тяжелее, если даже и видят предметы перед тем, как взять их в руки. С позиций развитых выше представлений очень интересно рассмотреть структуру жаргонных языков. В некоторых микроколлективах они используются повседневно, заменяя обыденный язык. Это очень интересный феномен, и он, конечно, достоин глубокого и всестороннего изучения. Здесь мы ограничимся лишь отдельными высказываниями по этому вопросу. Слова жаргонных языков лишены селективной априорной функции распределения. Эти слова, строго говоря, ничего не обозначают или обозначают все что угодно. В высказываниях, построенных над этими словами, их прямой смысл не имеет значения – он придает только остроэмоциональный оттенок всей речи. Но если этот оттенок считать несущественным, а он в семантическом смысле действительно несуществен, то слова жаргонного языка можно было бы заменить любыми другими словами-символами, обозначающими с одинаковой вероятностью все что угодно. Разговор на таком языке имеет, естественно, очень бедную семантику. Люди, ведя беседу на жаргонном языке, не используют всего богатства своего знания о мире, закодированного в априорных функциях распределения смыслового содержания слов обыденной речи. Языковые игры в обычном их понимании оказываются невозможными на жаргонном языке. Но в чем же тогда его привлекательность? Отнюдь не только в эмоциональной окраске высказываемого. Оказывается, что на жаргонном языке можно вести совсем особые и, видимо, также весьма увлекательные языковые игры. Можно указать хотя бы на две составляющие таких игр. Первое – это угадывание того смысла, который собеседник в некоторой ситуации хочет вложить в слова такого языка. Второе – и это, наверное, наиболее интересно – необычайная возможность словотворчества: образование новых, подчас совсем неожиданных слов из одного корня. Остановимся на этом вопросе подробнее. Возможность словообразования путем широкого использования суффиксов и префиксов – одна из особенностей русского языка, делающая его по-настоящему очень богатым. Возьмите слово «дом». От него можно произвести: домик, домишко, домичек, домок, домушко... В английском языке такое словообразование невозможно. Во французском – если и возможно, то в очень слабой степени. (На эту особенность русского языка при сопоставлении его с английским почему-то не обратил внимания В. Набоков, сравнивая русский язык с английским; подробнее об этом сравнении см. на с. 146.) По-настоящему эту удивительную словообразовательную способность русского языка сумел выявить необычайно талантливый русский поэт Велемир Хлебников. Вот одно из его стихотворений, показывающее все многообразие ветвления слова «смех»:
Что это такое? Это танец слов, ритм, в котором они изгибаются, извиваются, одевают себя в покрывало, сотканное из суффиксов и префиксов, переодеваются на наших глазах и снова оказываются обнаженными. Ритм этого танца-маскарада увлекает за собой смысловые поля таких простых слов, как «смех», «смеяться», «засмеяться», «рассмеяться»... Но главное здесь не смысл, он не уточняется этим маскарадом. Главное – ритм, и он абсолютно не переводим ни на один другой язык, в том числе даже и на польский, несмотря на всю близость его к русскому языку. Трудно, но приходится признать, что знаменитое высказывание Витгенштейна о том, что смысл слов задается их употреблением, строго говоря, относится только к жаргонным языкам такого типа, как язык мата. Во всяком случае, затронутые здесь вопросы достойны, как нам кажется, самого серьезного анализа. Изучение их позволяет нам лучше понять особенности нашего языка. Заканчивая этот параграф, хочется сказать, что наша модель языка[*13]является дальнейшим завершением или развитием широко принятой в зарубежной лингвистической литературе модели черпака [Laird, 1961]. Согласно этой модели можно говорить прежде всего о концепции соотнесения (reference). Слово соотносится с определенным объектом или с несколькими объектами. Это свойство слова определяется более или менее четко. Соотнесение создает лишь бедный язык – люди идут дальше и приписывают словам особый смысл (meaning). Утверждается, что смысл слова черпается изнутри сознания человека. Слово есть некий «черпак», единый для всех, но у разных людей содержимое, зачерпываемое этим черпаком, оказывается далеко не одинаковым. В [ibid.] приводится такой пример: представьте себе, что кто-то собирается в театр, а его спутница в это время говорит: «Подождите минуточку». В этой фразе слово «минуточка» имеет весьма отдаленное отношение к астрономическому понятию «минута». И в зависимости от обстановки и характера спутницы один раз это слово может означать, что спешить теперь не нужно – все равно придется долго ждать, в другой раз это может обозначать, что уже действительно все готово к тому, чтобы выходить из дома. Мы бы сказали, что отнесение к слову некоторого значения эквивалентно нашему представлению о некоем усредненном его смысле и потому оно неизбежно оказывается бедным. Зачерпывание глубокого содержания эквивалентно нашему представлению о механизме бейесовского чтения. В случае естественного языка обычно бесполезно искать какой-то безусловный однозначный смысл во фразах. «Лучше говорить об осмысленности фразы, чем о ее смысле» – эта изящная формулировка Хаттена [Hutten, 1956] находит свое обоснование в нашей модели. Нам хотелось бы еще противопоставить наш подход шведской лексико-статистической школе, возникшей в 1950-х годах, и ее новому ответвлению, сформулированному уже совсем недавно Сэнкоффом [Sankoff, 1969]. По-видимому, эта школа исходит из упоминавшегося представления логических позитивистов о логическом атомизме. Во всяком случае, развиваемая ими концепция опирается на постулат о существовании некоторого множества значений. В общем случае это просто некий аналитический конструкт. В частном случае – при изучении тех или иных естественных языков – это множество может быть построено эмпирически, исходя из анализа частотных кривых употребления слов. В первоначальных формулировках шведской школы даже утверждалось, что можно выделить около 200 универсальных смысловых значений, не зависящих от особенностей той или иной культуры; правда, у Сэнкоффа этот постулат уже оказался опущенным. Далее рассматривается стохастический процесс, задающий флуктуации в вероятности употребления слов для выражения того или иного значения. Это диффузионный процесс с нулевым переносом – в простейшем случае это броуновский процесс. Итак, мы видим, что при построении вероятностной модели языка может быть два как будто бы и не сильно отличающихся подхода, но приводящих, как оказывается, к существенно различным построениям. В нашем случае строится функция распределения для смысла, вкладываемого в слова, и это дает возможность использовать теорему Бейеса, ввести представление о субъективных вероятностях и получить все изложенные выше результаты, относящиеся к пониманию того, как человек воспринимает читаемое. В другом случае – в шведской лексико-графической школе – изучается флуктуация слов около логических атомов, это дает возможность понять некоторые лексико-статистические явления, скажем, хорошо известный лингвистам закон Ципфа, характеризующий распределение слов, упорядоченных по частоте их встречаемости в текстах. К нашей концепции, может быть, ближе стоит невероятностный подход к построению количественной семантики расплывчатого смысла слов, разрабатываемый Заде [Zadeh, 1971] на основании предложенной им концепции расплывчатых множеств и логики нечетких предикатов. Но в этой системе представлений, насколько нам известно, не удалось построить модели коммуникации, отражающей особенности семантической настроенности приемника. 4. Роль противоречивых высказыванийКак это ни странно, мы очень мало что можем сказать о роли противоречивых высказываний. Насколько нам известно, с общелингвистических позиций никто систематически не занимался изучением этого вопроса, хотя, казалось бы, ясно, что предмет исследования здесь налицо: противоречивое по своему характеру мышление человека должно находить свое отражение в языке. Витгенштейн – по крайней мере в первом периоде своей деятельности – безусловно верил в логическую структуру языка и считал, что противоречивые в логическом смысле суждения просто не могут существовать. Вот одно из его высказываний в Трактате:
И дальше:
И в качестве такого бессмысленного предложения он приводит следующий пример:
Позднее, в Исследованиях [Wittgenstein, 1953], он пишет:
В то же время логики (а ведь автор приведенных слов тоже был логиком!) со времен Древней Греции изощрялись в формулировке логических и семантических парадоксов. Многие из них воспринимались трагически, так же, как трагически воспринимаются сейчас серьезные противоречия в теориях. Известно, например [Кондаков, 1971], что Фреге за последние двадцать лет своей жизни не опубликовал ни одной крупной работы по логике. Это произошло после того, как Рассел нашел неразрешимое противоречие в первом томе его фундаментального труда Основные законы арифметики. Но все это относится к грубым противоречиям, вызывающим раздражение. Многие из этих противоречий, а может быть и все, снимаются при внимательном рассмотрении, если у нас хватит смелости отказаться от слишком узкого понимания формальной логики. Выше мы уже говорили, что многие противоречия возникают только из-за гетерогенности нашего языка: в обыденном языке мы смешиваем суждения, высказанные на языке-объекте, с суждениями, высказанными на метаязыке. Другие противоречия возникают из-за приписывания словам слишком жесткого смыслового значения. Эти грубые противоречия немедленно исчезнут, как только мы обратимся к вероятностной модели языка. Рассмотрим классический парадокс о лжеце[*14]. Он может быть сформулирован так: «И лжец может сознаться в том, что он лжец. Тогда он будет говорить правду. Но тот, кто говорит правду, не есть лжец, следовательно, возможно, что лжец не есть лжец». С вероятностных позиций здесь просто нет никакого парадокса. Все дело в том, что лжецом будет называться тот, у кого правдивые высказывания встречаются с малой вероятностью. Этот парадокс потеряет свою парадоксальность, если мы подойдем к его анализу и с других позиций: признание лжеца в том, что он говорит ложь, нужно рассматривать как метавысказывание. Иногда парадокс о лжеце формулируют так: Критянин Эпиминид сказал: «Все критяне лжецы». Но Эпиминид сам критянин, и, следовательно, он также лжет. Каков же будет истинный смысл высказанной им фразы? Здесь уже совершенно отчетливо видно, как смешиваются высказывания на языке-объекте с высказываниями на метаязыке. Если бы на язык было наложено требование гомогенности, то Эпиминид, будучи сам критянином, не имел бы права высказывать какие-либо суждения об истинности или ложности высказываний критян. Представьте себе теперь такую ситуацию. Кто-то говорит: «Я лгу». Что это значит? Если перед тем он говорил что-то другое – скажем доказывал теорему или проводил численные выкладки, – то мы ясно понимаем, что он, произнося эту фразу, сообщает нам о том, что сам нашел ошибку в своих логических построениях или вычислениях. В этом случае полиморфное слово «лгать» приобретает одно из множества своих значений. Но вот допустим, что была сказана всего только одна приведенная выше фраза и больше ничего. Тогда ее интерпретировать просто нельзя. С формально-логических позиций эта грамматически правильно построенная фраза несет в себе внутреннее противоречие: неизвестно, что, собственно, говорит высказывающийся – ложь или правду. Для логиков это неиссякаемый источник размышлений и утонченных построений. С наших позиций здесь нет парадокса – просто хорошая иллюстрация поведения вероятностной модели языка. Будем исходить из того, что глагол «лгать» – очень полиморфное слово. Если фраза состоит всего из двух слов и не имеет какого-либо другого словесного окружения, то мы с полиморфизмом этого слова справиться не можем и вынуждены приписать ему какое-то одно, строго фиксированное, безусловное значение; аналогичная ситуация в приписывании ненулевой вероятности точечному значению результатов измерения непрерывной случайной величины. И это неизбежно должно привести к нелепости. Можно, конечно, попытаться приведенную выше фразу толковать расширительно, полагая, что высказывающийся говорит сейчас правду, утверждая, что он, вообще говоря, т. е. чаще всего, лжет. При таком расширенном толковании фраза сразу приобретает смысл, согласующийся с вероятностным представлением о смысле слова «лгать». Но все же оно вряд ли правомерно. Сама проблема истинности, которой было уделено столь много внимания в современной логике, теряет свой первоначальный смысл, если словам, с помощью которых формулируются высказывания, приписывается поле значений. Вероятностная модель языка дает нам возможность понять, как в высказывания вводятся тонкие противоречия, обогащающие речь, превращающие ее в негёделевскую систему. Происходит это прежде всего на уровне интерпретации, когда при чтении слов фразы в них вкладывается априорная информация, приводящая к логически конфликтной ситуации, к столкновению идей. С формальных позиций это может вызвать раздражение и воспринимается даже как бессмыслица. Сошлемся здесь на интересную заметку Ю.Б.Данояна [1970]. Он рассматривает противоречия и тавтологии в языке проблем психофизиологического содержания. Противоречиями Даноян считает бинарное сочетание понятий, противоположных по смыслу, находящихся в отношении включения. Под противоположными понятиями подразумеваются не просто антонимы, а «дополнительные» компоненты классической дилеммы. Он утверждает, что «из дилеммы «физическое – психическое» следует, что «физическое психического» – противоречие, из дилеммы «механизм – цель» следует, что «механизм цели» – противоречие, и т. д.» Тогда противоречивыми оказываются такие высказывания:
Инвариантами всех этих высказываний оказывается противоречивое словосочетание «физическое психического». К такому же типу противоречий относятся, по Данояну, и столь частые в нашем современном языке высказывания такого типа:
Здесь слово «механизм» интерпретируется как «орудие», т. е. как средство достижения цели, а цель – это мышление, распознавание, вспоминание. Инвариантом трех последних выражений будет противоречивое высказывание «механизм цели» или «средство цели». Нам представляется, что если такой анализ продолжить, то противоречия подобного рода можно найти в любой научной публикации и в любой беседе. Как обеднили бы мы наш язык, если бы признали высказывания такого рода недопустимыми! Интересно обратить внимание на то, что в нашем языке существует особый механизм для введения в него тонких противоречий. Этот механизм задается употреблением метафор. Трудно дать хорошее определение этому понятию. Слово метафора происходит от греческого слова metajora – перенос, в переносном смысле. В Новом оксфордском словаре дается уже такое определение этому понятию: «...форма выражения, в которой имя или дескрипторный термин понимается как нечто отличное от своего прямого значения, но аналогичное тому, к чему оно приложимо». По меткому выражению Барфилда, употребляя метафору, «мы говорим одно, а понимаем другое» (цитируем по [Black, 1962]). В нашей интерпретации речь, содержащая метафору, строится следующим образом: в фразу или в отрезок фразы вводится слово с широкой априорной функцией распределения смыслового содержания, при этом одна часть смыслового содержания слова оказывается в согласии с остальными словами фразы, другая – в противоречии. Так в речь вводится тонкое противоречие, делающее ее изящной и подчас изысканной. В речи, богатой метафорами, происходит перенос смыслового значения, основанный не только на сходстве, но и на контрасте. Слова употребляются в новом, подчас ошеломляющем значении, вот одно из таких шокирующих словосочетаний: «сапоги всмятку». В нашем представлении метафорическая речь прежде всего оказывается связанной с поэзией. Вот несколько примеров: «говор волн», «скирды солнца» или словосочетания в следующих строчках из стихотворений С. Есенина:
Мы не можем сформулировать четких критериев, которые позволили бы отличать метафору от поэтического образа.Можно ли, например, считать метафорическими следующие строки, взятые опять-таки из стихотворений С. Есенина:
Но вот что важно отметить: наша повседневная деловая речь и наша научная речь – все это наполнено метафорами. Вот несколько примеров из деловой речи:
То debug – выявить ошибки. Новое слово американского делового сленга буквально обозначает «уничтожить клопа». Слово bug имеет и другие метафорические значения: технический дефект, безумная идея, помешательство... К анализу метафор в научном языке мы вернемся ниже, в главе о языке науки. Сейчас, заканчивая этот краткий разговор о метафоре, отметим только, что в записанных выше метафорах есть такие же противоречия, как и в приведенных выше примерах из работы Ю.Б.Данояна. Действительно, знания – это нечто серьезное и противоположное тому, что принято характеризовать словом «мода»; интеллект – это нечто собранное, целенаправленное, логичное – все это противоположно нашему представлению о поле, как о чем-то обширном, размытом и наверняка уже лишенном всякого интеллекта, а наше представление о высказываниях никак не увязывается с представлением о векторах. Хотя мы знаем, что если векторы ортогональны, то это значит, что они линейно независимы, и мы понимаем, что здесь речь идет о таком высказывании, которое никак не согласуется с какими-то другими, ранее сделанными. А раздавить клопа – это процесс в каком-то смысле, конечно, напоминающий процедуру исправления ошибки, но одновременно и совсем не похожий на нее. Не следует ли из всего этого, что метафоры – не какая-то особая категория нашего обыденного языка, а скорее, просто наиболее яркое проявление того механизма, который в той или иной степени присущ всякой речи. В наиболее яркой форме метафора проявляется в устной речи, где для этого есть дополнительные средства – артикуляция голоса, а иногда еще и жесты. Блэк [Black, 1962] приводит такой пример: Черчилль в своей известной фразе назвал Муссолини the utensil, что значит по-русски просто... утварь, посуда. И только тон голоса, словесное окружение, исторические посылки, понятные только для жителей данной страны, – лишь все это вместе дало англичанам возможность понять смысл метафоры. С формально-логических позиций применение метафор – это отказ от одного из основных законов логики – закона исключенного третьего, который может быть записан так: А есть либо В, либо не В. Посмотрим теперь, как относится к тонким противоречиям наука. Выше мы уже говорили, что Карнап предложил отбросить Трактат [Витгенштейн, 1958] как произведение, полное нелепостей. Но все же никто этого не сделал. И вряд ли кто-нибудь сможет отрицать интеллектуальную силу этого произведения, хотя многие высказанные там суждения могут вызвать самые сильные возражения. Сила этого произведения как раз и задается его парадоксальностью; отдельные высказывания в каком-то смысле находятся в противоречии друг с другом, хотя в них и есть некая внутренняя согласованность. И только эта игра на согласованности и противоречивости дает возможность автору Трактата выразить свое сложное мировоззрение, которое вряд ли удалось бы вместить в рамки внутренне непротиворечивых высказываний. Здесь нам хочется обратить внимание на очень интересную, но мало известную публикацию физиков М.И.Подгорецкого и Я.А.Смородинского [1969] об аксиоматическом построении физических теорий. По их представлениям, физические теории создаются в два этапа. Первый этап – локальные теории со скрытыми противоречиями, второй этап – выявление противоречий при встрече локальных гипотез. Преодоление этих противоречий оказывается отправной точкой последующего развития физики. Хотелось бы выяснить, какие языковые приемы используются на первом этапе – при создании локальных теорий; ведь эти противоречия действительно вначале должны быть хорошо скрыты, иначе работа просто не могла бы быть опубликована. Даже на завершающем этапе – при построении обобщающих концепций микромира – приходится допускать противоречия. Классическая логика оказывается недостаточной для описания внешнего мира. Пытаясь это осмыслить философски, Бор сформулировал свой знаменитый принцип дополнительности, согласно которому для воспроизведения в знаковой системе целостного явления необходимы взаимоисключающие, дополнительные классы понятий. Это требование эквивалентно расширению логической структуры языка физики. Бор использует, казалось бы, очень простое средство: признается допустимым взаимоисключающее употребление двух языков, каждый из которых базируется на обычной логике. Они описывают исключающие друг друга физические явления, например непрерывность и атомизм световых явлений и т. п. Иногда принцип дополнительности рассматривается как обобщение принципа неопределенности Гейзенберга. Бор сам хорошо понимал методологическое значение сформулированного им принципа: «…целостность живых организмов и характеристика людей, обладающих сознанием, а также и человеческих культур представляют черты целостности, отображение которых требует типично дополнительного способа описания» [Бор, 1971]. В нашей философской литературе принцип дополнительности вначале был встречен с большой настороженностью, но сейчас, если судить по материалам Обнинской конференции [Принцип дополнительности, 1975], он привлек большое внимание и получил расширенное толкование в применении не только к физике, но и к другим разделам знаний. Принцип дополнительности – это, собственно, признание того, что четко логически построенные теории действуют как метафора: они задают модели, которые ведут себя и как внешний мир и не так. Одной логической конструкции оказывается недостаточно для описания всей сложности микромира. Требование нарушить общепринятую логику при построении картины мира со всей очевидностью впервые появилось в квантовой механике – и в этом ее особое философское значение. Интересно здесь привести высказывание Гейзенберга – одного из основоположников квантовой механики: «Абсолютное выполнение требования строгой логической ясности, вероятно, не имеет места ни в одной науке» [1963]. Наконец, самое важное: о противоречиях в математике. Можно думать, что и там мистический страх перед противоречиями постепенно отступил на задний план. Проблема потеряла свою остроту, да, может быть, и четкость. Очень интересными нам представляются высказывания Хао Ван [1965] – известного специалиста по аксиоматической теории множеств:
Трудно в кратких словах передать все содержание очень интересной статьи Хао Ван, но вот что важно – она оказывается очень умиротворенной в отношении проблемы непротиворечивости. Он говорит, что противоречия часто очень интересны, хотя они никогда не являются целью и никто не будет рекомендовать метод на том основании, что он достаточно силен, чтобы давать противоречия. И в то же время Хао Ван допускает возможность существования математической структуры с противоречиями. Если в системе будут обнаружены некоторые противоречия, то отсюда не будет следовать непригодность выводов, полученных логически из этой системы, ибо следствия могут и не использовать всего, что заложено в исходной структуре. А если, продолжает он, говорить о практических задачах, скажем о строительстве мостов, то совсем не обязательно формализовать математику и доказывать ее непротиворечивость, – там найдется и много других более важных и вполне реальных проблем. Нам представляется, что высказывания Хоа Ван в значительной степени отражают взгляды тех, кто теперь занимается вопросами обоснования математики. Вернемся теперь к нашему обыденному языку. Выше мы уже говорили, что он несет в себе элементы формальной логики: ее усваивают с детства, обучаясь языку. И в то же время наше обыденное речевое поведение никогда не бывает до конца логичным. Попробуйте вдуматься в фразы беглых бесед, в многочисленные объявления и инструкции – почти везде вы обнаружите алогичности. Более того, если кто-либо пытается в повседневном речевом поведении быть безусловно логичным, то его немедленно причисляют к разряду шизофреников. Так, прелесть сказки Л. Кэрролла Алиса в стране чудес, по крайней мере для взрослых, заключается как раз в том, что читатель вводится в мир нелепо строгой логичности. Действительно, ведь слово «улыбка» – существительное, и, следовательно, нет ничего нелогичного, если улыбка Чеширского кота может появляться и без кота. Любопытно здесь обратить внимание и еще на одно обстоятельство. Психиатры хорошо знают, что больные со сниженной интеллектуальной деятельностью перестают понимать метафоры – они воспринимают только их буквальный смысл. Скажем, простая метафора «золотые руки» вызывает только буквальные и, с позиций здорового человека, совсем нелепые толкования. Одним из диагностических признаков в психиатрии является неспособность пациента воспринимать пословицы. С другой стороны, еще одним признаком сниженной интеллектуальной деятельности является грубое нарушение логики. Это диагностируется следующим образом: пациента просят растолковать смысл заведомо нелепых картинок, и, оказывается, он не может обнаружить там грубой нелепости. Или его просят разложить в логической последовательности серию связанных между собой картинок, и он не может этого сделать, а шизофреники, если это и делают, то в нелепо причудливой форме. Одновременно в речи больных проявляется уже весьма произвольное употребление слов. Возникают метафоры, понятные только им одним (подробнее см., например, [Kazanin, 1944]). Оказывается, что интеллект нормального человека лежит где-то в очень узкой нише, ограниченной, с одной стороны, непониманием метафор – тонких алогичностей, с другой стороны, грубым нарушением логики. 5. Семантическая шкала языковКлассификация явлений – это один из способов описания сложных систем. Можно, вероятно, предложить много способов классификации языковых систем. Мы здесь остановимся подробно только на одном из них – на построении семантической шкалы языков. Эта система классификации будет размещать языки на шкале в соответствии с той ролью, которую играет в них вероятностная структура смыслового значения. Представьте себе шкалу, на одном конце которой находятся совсем жесткие языки, скажем языки программирования; здесь каждому знаку совершенно однозначно приписывается четко определенный смысл – какая-либо одна математическая или логическая операция. В эту же часть шкалы попадут многочисленные диалекты языка чистой математики и математической логики, где символы используются сами по себе, оставаясь непосредственно не связанными с явлениями внешнего мира. Смысл символов определяется при их введении или становится понятным после того, как из них формулируются какие-нибудь высказывания, скажем аксиомы. В некоторых случаях, например в математической логике и в теории так называемых контекстно-свободных языков, о которой мы еще будем говорить ниже, символам никакого специального смысла, относящегося к внешнему миру, вообще не приписывается. На другом конце этой шкалы будут находиться совсем мягкие языки, в которых вероятностная структура смыслового содержания проявляется в наиболее полной форме. Примером такого языка может быть язык абстрактной живописи. Ниже мы посвятим отдельную главу этому языку и покажем там, что знаковая система абстрактной живописи действительно может рассматриваться как язык. Сейчас, забегая вперед, скажем только, что со знаковой системой этого языка связаны априорные функции распределения, носящие глубоко субъективный характер. Здесь трудно проследить ту согласованность, которая наблюдается для априорных функций распределения смыслового содержания обыденного языка. В этом смысле язык абстрактной живописи оказывается вырожденным – в нем до крайней степени доведена та тенденция, которая наблюдается в нашем обыденном языке. Наш обыденный язык, а также языки науки попадают куда-то на середину этой шкалы и занимают там широкий интервал. В них априорные функции распределения смыслового содержания слов в какой-то степени оказываются согласованными, особенно для лиц одинаковой интеллектуальной настроенности. Но степень этой согласованности очень сильно варьирует при переходе от одного раздела знаний к другому. Менее всего эта согласованность проявляется, пожалуй, в языке многообразных философских направлений на Западе (в применении к которым и возник афоризм: «Философия – это патология языка»). Совсем однозначный характер носят некоторые диалекты языка химии, прежде всего язык химических формул. Если, скажем, мы где-то в химическом тексте находим символ Na, то это обозначает только металл натрий и ничего больше, хотя, правда, в записи NaCl символ Na уже обозначает ион натрия. В то же время в языке науки мы встречаемся и с резко выраженным полиморфизмом, который там оказывается подчас более сильным, чем в обыденном языке; к обсуждению этого вопроса мы вернемся ниже (см. разд. 1 в гл. III). Сейчас заметим лишь, опять-таки забегая вперед, что и язык математики, когда он применяется для описания явлений внешнего мира, приобретает полиморфизм. Совсем особое положение на семантической шкале занимает язык древнеиндийской философии. Там признается за словами право быть полупустой формой, в тексты там открыто вводятся противоречия – все это заставляет нас поместить на семантической шкале язык древнеиндийской философии где-то за нашим обыденным языком, ближе к языку абстрактной живописи. Позднее мы еще вернемся к описанию этого языка. Сейчас нам хочется только обратить внимание на то, что с наших позиций классификацию языков при широкой постановке этой задачи надо проводить не по народам, а по эпохам культур: тогда на семантической шкале не будут занимать различные места языки двух народов, скажем английского и французского, принадлежащие сейчас одной культуре. Семантическую шкалу можно также представить в виде открытой прямой, полагая, что мягкие языки устремляются на ней в одну сторону, жесткие – в другую. Тогда из топологических соображений будет следовать, что добавление одной внешней точки позволяет замкнуть прямую в окружность. Такой отдельно отстоящей точкой оказывается язык религиозно-философской системы дзэн – этого своеобразного японского ответвления буддизма, имеющего уже совсем мало общего со своим первоисточником. Язык дзэн – совсем особый, уникальный язык абсурдных высказываний. Высказывания строятся в виде алогичных предложений – коанов, содержащих лишь какой-то намек. Это загадки, лишенные рациональной отгадки. Адепт дзэнского монастыря должен погрузиться в медитацию, чтобы раскрыть смысл, странным образом закодированный в необычном предложении. На это могут быть потрачены месяцы, а иногда и годы. Вот несколько примеров такого рода высказываний (они заимствованы нами из диссертации [Померанц, 1968]):
Эти утверждения нельзя назвать логически противоречивыми. Если пользоваться терминологией Трактата [Витгенштейн, 1958], то их, казалось бы, можно назвать бессмысленными, или, еще лучше, – запрещенными с позиций нашего обыденного языка. Но на самом деле это язык, передающий какой-то особый, глубокий смысл. Когда коан решен, то адепту становится понятным, что это простое, ясное и почти очевидное утверждение, сделанное учителем в состоянии просветления. Построением шокирующих высказываний учитель стимулирует желание ученика достичь такого же просветленного состояния. Дзэн, конечно, не только набор коанов, это нечто большее – это миросозерцание, оказавшее глубокое влияние на всю культуру Японии (подробнее см. об этом в статье Т.Григорьевой [1971]). Легко прослеживается влияние дзэн и на культуру Запада, на таких художников, как Ван-Гог и Матисс, на писателя Сэлинджера, а в своей вульгарной форме – и на американских битников, что нашло свое выражение у героев Джерома Д.Керуака. Все это хорошо изложено у Е.В.Завадской [1970]. Но здесь нас интересует другое – типологическая общность явлений в культурах Запада и Востока, возникшая независимым, внеконтактным способом, – если пользоваться терминологией Н.И. Конрада [1966]. Нам представляется, что в языке западной культуры мы можем проследить те тенденции, которые в своей наиболее яркой форме проявились в языке дзэн. Прежде всего, это метафоры нашего языка, они вносят в нашу речь тот же шокирующий оттенок из-за несовместимости высказанного, который в своей рафинированной форме проявляется в коанах. Дальше можно указать на некоторые поговорки, пословицы, карикатуры и подписи к ним, анекдоты, особенно абстрактные. В совсем гротескной форме это проявляется в живописи сюрреалистического направления. Вот на картине Сальвадора Дали «Изобретение чудовищ» (из чикагского музея) справа – горящая жирафа, в центре – стол, на котором помещена скульптура лошадиной головы с женской грудью, около стола почти человеческая фигура с крылышками, в правом верхнем углу – обнаженные фигуры в нелепых позах, в нижнем левом углу – странная группа людей с заговорщицким видом, в нижнем правом углу – песик. Каждая из композиционных составляющих изображена в реалистической манере – вполне «реальны» как жирафа, так и огонь, которым она горит. Вся композиция в целом – это загадка, подобная коанам: шокирует здесь несовместимость изображенного. Коаны очень напоминают по своей логической структуре и антипьесы Э.Ионеско и С.Беккета (некоторое представление о них можно получить по статье И.Куликова [1970]). Здесь, как и в сюрреалистических картинах, используется то, что иногда называют «обратной стороной логики». Итак, наша семантическая шкала замыкается на ту точку, в которую попадает язык дзэн – самый необычный из известных нам языков человеческого общества. И, что нам кажется особенно интересным, в этом языке в наиболее яркой форме проявляются те тенденции, которые в той или иной степени, иногда очень выпукло, проявляются и в выразительных средствах других культур. 6. О некоторых методологических предпосылках вероятностной модели языка
Развиваемая нами вероятностная модель языка опирается на утверждение о том, что наш язык должен быть пригоден для выражения непрерывно развивающихся и усложняющихся знаний о мире. При этом, однако, нет необходимости высказывать какие-либо беспрекословные суждения о механизме мышления. Например, можно допустить существование некоторой «иерархии» уровней мышления: 1) образного «дологического» мышления[*15]; 2) логического мышления; 3) мышления, «надстраивающегося» над логическим и воплощающего человеческие свойства интуиции и творчества; механизм интуиции и творчества пока далеко не понят. В различные моменты люди могут находиться на разных уровнях иерархии мышления. Однако коммуникация, особенно научная, ведется преимущественно на логическом уровне. Дедуктивная логика – это в большей степени средство коммуникации, чем средство мышления. Задача логики – развитие тех идей, которые в сжатом и потому не вполне понятном виде уже содержатся в исходных посылках. Это особенно хорошо проявляется в языке математики, где дедуктивная структура построения суждений легче всего прослеживается. Здесь нам хочется привести высказывания известного французского физика Луи де Бройля [1962]:
Если логика – это средство коммуникации, то полиморфизм языка – это, скорее, преодоление трудностей в логически построенной системе коммуникаций, а не в самой системе мышления. Вероятностная модель языка – просто одно из возможных разъяснений того, как эта трудность преодолевается. Хочется обратить внимание на некоторую параллель между развитием физики и языкознания. Представление об атомарном смысле слов, идущее, может быть, еще от Лейбница (или еще раньше – от Каббалы), получило свое серьезное подкрепление у Фреге, Рассела и раннего Витгенштейна как раз в то время, когда, казалось бы, окончательно укрепилось представление о четко локализуемом в пространстве и времени атомарном строении материи. Сейчас развитие квантовой механики ввело представление о размытом характере субатомных частиц. Вот как пытается совсем кратко суммировать это представление физик Ф. Капра в своей работе, посвященной сопоставлению идей современной физики с древневосточным миропониманием [Capra, 1976]:
В вероятностной модели языка фундаментальным оказывается вероятностное задание смысла текста. Априорная функция распределения смысла слова р(μ) – это, если хотите, только «тенденция к осуществлению смысла слова», это как бы подготовка к некоему эксперименту, осуществляемому в речевом поведении путем построения некой конкретной фразы. Функция правдоподобия р(у/μ), возникающая при чтении фразы, как мы уже об этом говорили выше (см. с. 79), – прямой аналог измерению в физике. Смысл текста возникает как вероятностное описание взаимодействия «подготовленности к пониманию» и «речевого эксперимента», направленного на понимание. Аналогия оказывается глубокой, может быть, можно говорить о том, что в вероятностной модели языка проявилось парадигмическое давление современной физики. Оказывается, что как представление о дискретных – субатомных частицах в физике, так и дискретные слова нашего языка – это только условное обозначение того, что проявляется в контексте, который один раз задается физическим экспериментом, другой раз – в обычной фразе нашего повседневного разговора. Возможна и дальнейшая аналогия при сопоставлении слов с адронами – сильно взаимодействующими частицами, порождающими почти все известные сейчас субатомные частицы. Вот опять цитата из статьи [Capra, 1976]:
Аналогично в языке: слова в словарях объясняются через другие слова, но это не значит, что смысл каждого слова состоит из смысла тех других слов, через которые его пытаются объяснить; фразы состоят из слов, вероятностно взаимодействующих друг с другом, – это структура фразы, порождающая тот новый смысл, который вне ее не обнаруживается в каждом из составляющих ее слов, хотя этот смысл в них все же был заключен. 7. Заключительные замечанияЗаканчивая эту главу, нам хочется высказать следующее утверждение: человечество, видимо, всегда сознавало недостаточность своих средств коммуникации. Мышление человека и – более широко – его внутренняя жизнь, по-видимому, потенциально богаче, чем язык. Эта мысль неоднократно и по-разному была выражена многими. Вспомним, например, следующую строку из стихотворения Тютчева «Silentium»: «Мысль изреченная есть ложь». У А. Блока:
У А. Пушкина: «Блажен кто молча был поэт...», у А. Фета: «Как беден наш язык!» (см. работу Д. Благого [1975]). В монографии Е.В. Завадской [1970] приводятся слова учителя А.Матисса: «Смотрите на живопись как на страстное молчание». Вспомним и о «благородном молчании Будды», которым он отвечал на трудные вопросы. Известно представление об ограниченности слова в «теории молчания» Чжуан-цзы – одного из основателей даосизма, крупнейшего течения древнекитайской философии. У Гуань-цзы: «Звук непроизнесенного слова громче, чем раскат грома или бой барабана» [Древнекитайская философия, 1973]. Исключительно большая роль молчанию отводится в религиозной философии Йоги [Sivananda, 1967]: «Вслушивайтесь в тонкие, еле слышные голоса молчания»; «Сила молчания бесконечно превосходит силу лекций, разговоров, выступлений и дискуссий...»; «Язык молчания – язык Бога...». У Шопенгауэра читаем [1892]:
У Джона Рёскина:
У Хайдеггера:
У К.Г.Юнга [Б.г.]:
Гиллель, персонаж романа Густава Мейринка Голем [Б.г.], произносит следующие слова: «Неужели вы думаете, что наши еврейские книги случайно написаны одними согласными буквами? Каждому предоставляется возможность вставлять в них те гласные, которые сумеют раскрыть тайный смысл, предназначенный для него одного, – иначе живое слово должно было бы превратиться в мертвую догму». Особенно ярко проявилось сомнение в силе слова в языке дзэн. В наше время эта мысль отчетливо сформулирована индийским мыслителем Кришнамурти: «Понимание не приходит со знанием. Оно приходит в интервале между словами, между мыслями, этот интервал – безмолвие, не нарушенное знанием; оно открыто, неуловимо, внутренне полно» [Померанц, 1965]. В [Витгенштейн, 1958] мы читаем: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (парадокс 7), – это последний, заключительный парадокс Трактата. И все же люди все время ищут новые языки. Новые языки – это с определенной точки зрения новые культуры. И нам кажется вполне правомерным высказывание о том, что история человеческой культуры—это также и история знаковых систем. Развитие науки находит свое отражение в развитии ее языка. По определению Хаттена [Hutten, 1956], «наука представляет собой лингвистическое или символическое представление опыта». Почти то же самое говорит П.В. Копнин [1971]: «Язык – форма существования знания в виде системы знаков». У Лангер читаем: «Здание человеческого знания встает перед нами не как обширная коллекция описания чувственного опыта, а как некоторая структура фактов, которые являются знаками, и законов, которые являются их значениями» [Langer, 1951]. В.Н.Волошинов в своей книге «Марксизм и философия языка» [1929] формулирует еще более сильное утверждение: «Все идеологическое обладает значением: оно представляет, изображает, замещает вне его находящееся, т. е. является знаком. Где нет знака – там нет и идеологии». И у физиков мы также можем встретить жалобы на недостаточность современных языковых средств. Например, Гейзенберг, описывая бурную реакцию на развитие современной физики, говорит следующее [1963]:
Наиболее ярко облик культуры запечатлевается в языке ее архитектуры. Здания – фразы этого языка, построенные из отдельных конструктивных элементов – знаков, образующих словарь языка. Ансамбли зданий – тексты этого языка. Здесь прослеживается иерархическая структура языка архитектуры. Впрочем, тексты в архитектуре иногда могут вырождаться в шумы, как это часто бывает в современных однотипных застройках. Но тогда уже нельзя говорить об архитектуре: по определению Корбюзье, архитектура – это порядок. Люди все время ищут новых форм для выражения и иногда находят такие необычные для нас пути, как дзэн. Язык, получив толчок к своему существованию, начинает развиваться как самоорганизующаяся система, оказывающая влияние на мышление человека. По-видимому, не имеет смысла обсуждать здесь вопрос, что первично, что вторично; феноменологически мы можем наблюдать и анализировать только язык, поэтому нам удобнее говорить об одной системе – о языке культуры, о ее знаковой системе. Здесь хочется привести высказывание: «Границы моего языка означают границы моего мира» [Витгенштейн, 1958] (парадокс 5, 6)[*17]. Впрочем, много раньше почти ту же мысль высказал Гумбольдт, утверждая, что различие в языках – это в определенном смысле различие во взгляде на мир. И почти так же звучит высказывание Уорфа о том, что мы воспринимаем природу так, как она выражена в нашем родном языке. Если даже встать на точку зрения Лейбница и считать, что существуют необходимые – логические – истины, остающиеся истинными во всех мыслимых мирах, то они не несут никакой информации о нашем мире и о том, как мы его воспринимаем. Остается малоисследованным вопрос о том, как и в какой степени для носителя данной культуры понятны языки других культур (скажем, как мы понимаем – и понимаем ли вообще – язык древнеиндийской философии или тем более язык дзэн). Необходимость в обогащении культуры новыми идеями ощущается постоянно – отсюда интерес к другим культурам и языкам, в которых носитель данной культуры всегда найдет интересное для себя. * * * Все мы знаем древний восточный символ мудрости: змею, кусающую себя за хвост. Это коан. И все сказанное выше есть интерпретация этого коана. Мудрость человека – в смыкании семантической шкалы, смыкании безграничной размытости слов с жесткостью логики. Это мудрость чисто человеческая, недоступная искусственному интеллекту. [*] Ответственным редактором второго издания книги был Л.Б.Баженов (прим. ред.). [1] Приведенная ниже коллекция высказываний о языке в значительной своей части подобрана А.В.Ярхо. Год первой публикации указывается после квадратных скобок в тех случаях, когда он не совпадает с годом того издания, на которое ссылается автор. [2] Платон (428/7–348/7 гг. до н. э.) – древнегреческий мыслитель, представитель античного идеализма; от Платона в значительной мере идет проблематика научной абстракции, тесно связанная с пониманием «природы» языка, – проблематика, активно обсуждаемая в современной логике и методологии науки (см., например, статью С.А.Яновской [1972]). [3] В.В.Иванов [1964] обратил внимание на интересную параллель греческой традиции с древнеиндийской мифологией, где упоминается о том, что названия вещам были даны в результате акта творения господином речи – Всеобщим ремесленником. Эту параллель можно продолжать дальше, включив в рассмотрение и иудаизм. В Ветхом Завете сказано, что Адам дал название всем живым существам. [4] Т.Гоббс (1588–1679) – английский философ, один из основоположников механистического материализма. [5] Д.Локк (1632–1704) – английский просветитель, философ, основоположник материалистического сенсуализма. [6] Д.Гартли (1705–1757) – английский философ-материалист, врач и психолог. [7] В.Гумбольдт (1767–1835) – крупнейший немецкий лингвист, основоположник общего языкознания. [8] Я.Гримм (1785–1863) – немецкий лингвист, исследовавший германские языки с точки зрения их исторического развития. [9] Г.Штейнталь (1823–1899) – немецкий лингвист, основатель психологического направления в языкознании. [10] Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891) – крупнейший русский лингвист, занимавшийся чрезвычайно широким кругом вопросов. [11] А.Шлейхер (1821–1868) – немецкий лингвист, придерживавшийся, как было принято говорить, натуралистических, а теперь мы сказали бы – предкибернетических воззрений и рассматривавший язык как естественный организм. [12] Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) – крупный русский лингвист, основатель Казанской школы языкознания. [13] Л.Кэрролл – псевдоним Ч. Доджсона (1832–1898) – английский математик, автор популярных книг Приключения Алисы в стране чудес и Алиса в Зазеркалье. [14] Переводчик Алисы в Зазеркалье В.А.Азов называет этот персонаж Ванькой-Встанькой, но нам кажется более удачным перевод, предложенный С.Я.Маршаком. [15] Г.Пауль (1846–1921) – немецкий языковед, видный представитель младограмматиков, в работах которого принципы этой школы представлены в наиболее полном виде. [16] Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) – крупный русский лингвист, основатель Московской школы языкознания. [17] Ф. де Соссюр (1857–1913) – крупнейший швейцарский языковед, родоначальник структурализма в языкознании. [18] Бертран Рассел (1872–1970) – английский логик и философ, общественный деятель. Сыграл значительную роль в формировании английского варианта логического позитивизма. Подробный анализ взглядов Рассела см. в книге [Нарский, 1962]. [19] Людвиг Витгенштейн (1889–1951) – австрийский логик и философ, с 1929 г. жил в Англии. Взгляды Витгенштейна сыграли значительную роль в формировании установок логического позитивизма, а также школы так называемых английских аналитиков. Критическое рассмотрение идей Витгенштейна – в их эволюции – см. в книге [Козлова, 1972]. Краткое изложение философских взглядов Витгенштейна на фоне его драматической биографии дано в [Bartley, 1973]. [20] Осип Эмилиевич Мандельштам (1891–1938) – русский советский поэт. [21] Леонард Блумфилд (1887–1949) – крупный представитель американской школы дескриптивной лингвистики, разрабатывавший методы изучения речевого поведения человека на базе бихевиоризма («поведенческая» психология). [22] Сергей Осипович Карцевский (1884–1955) – русский лингвист, представитель второго поколения Женевской школы, позже – член Пражской школы функциональной лингвистики. [23] Э.Сепир (1884–1939) – американский лингвист и антрополог, один из авторов гипотезы, известной под названием гипотезы Сепира–Уорфа, составляющей важнейшее положение этнолингвистики. [24] К.Бюлер (1879–1963) – представитель немецкой школы психологии мышления. Рассматривал язык с психологических позиций. [25] Иван Иванович Мещанинов (1883–1967) – известный советский языковед, ученик Н.Я.Марра. [26] Б.Л.Уорф (1897 – 1941) – американский этнолингвист, инженер-технолог по образованию. [27] В.Матезиус – чехословацкий языковед, создатель Пражского лингвистического кружка. [28] Ч.Моррис (р. 1901 г.) – американский исследователь в области семиотики, впервые четко сформулировавший основные понятия и принципы этой новой научной дисциплины. В своих философских взглядах соединяет американский прагматизм со многими положениями логического позитивизма. Критическую оценку взглядов Морриса см. в сб. [Добронравов, 1964]. [29] Р.С.Уэлс – американский лингвист. [30] В.Скаличка (р. 1909 г.) – чехословацкий языковед, член Пражского кружка функциональной лингвистики. [31] Ш.Балли (1865–1947) – крупный языковед, представитель Женевской школы, ученик де Соссюра. [32] Л.Ельмслев (1899–1965) – видный датский лингвист, создатель глос-сематики (датского структурализма). [33] Дж.А.Миллер – американский психолог и лингвист; занимается, в частности, исследованием речевой деятельности. [34] У.Дж.Энтуистл – английский лингвист широкого профиля. [35] Норберт Винер (1894–1964) – американский математик, основоположник кибернетики. Для нас здесь прежде всего важно отметить, что Винер видит истоки кибернетики в возрастающей роли вероятностного мышления. В его книге Кибернетика и общество предисловие имеет подзаголовок: «Идея вероятностной Вселенной». Второе, на что нам хочется обратить внимание в работах Винера, – это его понимание роли языка при кибернетическом подходе к описанию систем. В упомянутой выше книге одна из глав у него называется «Механизм и история языка». Здесь мы с удивлением видим, как профессионал-математик, не боясь потерять свой престиж математика, описывает язык в обычных лингвистико-антропологических терминах, а дальше он вводит смелую метафору, рассматривая организм как сигнал. [36] Г.Райл (р. 1900 г.) – английский философ-неопозитивист, в 30-х годах примкнувший к школе «лингвистического анализа». [37] Дж.Дж.Уорнок, Д.Поул, А.М.Куинтон – английские философы, в своих работах критически обсуждающие взгляды логических позитивистов и Л.Витгенштейна. [38] Александр Георгиевич Спиркин (р. 1918 г.) – советский философ, в то время председатель Секции философских вопросов кибернетики Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР (прим. ред.). [39] См. примечание 37. [40] Борис Андреевич Успенский – советский лингвист. [41] См. примечание 37. [42] Павел Васильевич Копнин (1922–1971) – известный советский философ. [43] Юрий Сергеевич Степанов – советский лингвист. [44] Анатолий Алексеевич Ветров – советский философ, занимающийся методологическими проблемами семиотики. [45] Богдан Дянков – болгарский философ. [46] Октавио Пас – мексиканский поэт, прозаик, переводчик, один из выдающихся современных писателей испаноязычных стран. [47] Герман Гессе (1877–1962) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. [48] Здесь мы используем широко принятую сейчас в американском научном жаргоне терминологию, обозначающую две крайние тенденции в науке или технике словосочетаниями, заимствованными из обиходного языка: hard ware and soft ware – дословно: скобяные и мягкие товары. Так, например, в вычислительной технике то, что связано непосредственно с машиной, будет называться hard ware, а программы – soft ware; в науковедении разделы знаний с хорошо организованной системой библиографических ссылок будут называться жесткими науками, другие разделы, с беспорядочной системой ссылок, – мягкими науками. [49] Наиболее яркие представители логического позитивизма – Шлик, Карнап, обычно считавшийся лидером этого направления, Нейрат и Витгенштейн (в своих ранних работах), Рассел; близко к неопозитивистам по некоторым пунктам одно время стоял и Поппер. [50] Отметим лишь книгу М.С.Козловой Философия и язык [1972], подзаголовок которой гласит:
[51] Некоторые высказывания о Трактате носили весьма язвительный характер. Например, Карнап [Carnap, 1959] рассматривает Трактат как собрание «более или менее смутных высказываний, которые читатель должен впоследствии признать псевдофразами и отбросить». Во всяком случае, довольно обычным считается ставить вопрос о внутренней противоречивости Трактата, см., скажем, [Achinstein, 1968]. [52] Эта работа, написанная на немецком языке, была опубликована в 1953 г. – через два года после смерти автора – параллельно на двух языках: одна страница – немецкий оригинал, другая – английский перевод. Книга появилась, как писал Витгенштейн, в результате 16-летних размышлений. Он сам не был доволен этой своей работой, но для исправлений у него уже не осталось времени. И действительно, в Философских исследованиях мы почти не встречаем тех отточенных формулировок, которыми полон Трактат. Но зато мы находим в них примеры тонкого семантического анализа отдельных высказываний, сделанных на нашем обыденном языке, что послужило образцом для многих последующих исследований по семантике. [53] Мы не умеем определить, чтó есть «информация», и будем считать, что это такое сложное понятие, смысл которого раскрывается при чтении тех фраз, в которых оно употребляется. Такой подход не должен вызывать удивления. Даже при попытке строгой формализации математики приходится вводить понятия, смысл которых раскрывается из аксиом, формулируемых с помощью этих же понятий. [54] Другой вопрос – что эти возможности являются выражением достигнутого уровня познания. Вообще, упомянутая «чисто языковая позиция» – это просто чисто «лингвистическая» формулировка очевидного тезиса об относительности – невозможности жесткого разделения и тем более противопоставления – «случайного» и «необходимого». Но для наших рассмотрений требуется именно «языковая позиция». [55] Проблеме смыслового содержания знака, выражения языка и т. п. – проблеме значения – посвящена огромная литература, дать обзор которой здесь не представляется возможным. Мы ограничимся тем, что укажем работу Ю.Д. Апресяна [1963] и сборник [Нарский (ред.), 1969]. [56] Морфема – значимая часть слова: корень и аффиксы (приставки, суффиксы и пр.). [57] Словоформа – отрезок текста между пробелами. [58] Сегмент – отрезок текста между знаками препинания. [59] Фраза – отрезок текста между точками. [60] Парадигма – один из очень многозначных научных терминов. Дословный перевод этого слова с греческого языка – пример, образец. Когда мы обращаемся к примеру, то рассчитываем на возникновение каких-то ассоциаций. Поэтому в самом своем общем значении термин «парадигма» обозначает объяснение элементов по ассоциативному признаку – в этом именно смысле мы и будем употреблять это слово. Говорят также о доказательстве от парадигмы, которое основано только на сопоставлении с известным примером. В грамматике парадигмой называют образец формообразования речи. [61] Может быть, можно высказать такое утверждение: образ – это не знак, а символ, над которым не производятся логические операции. Теории символизма посвящена очень большая литература. Особенно интересной представляется работа С.Лангер [Langer, 1951]. Некоторое представление о ее концепции можно получить из статьи Е.М.Немировской [1972]. [62] Термин «метатеория» появился вслед за термином «метафизика», а последний был применен впервые александрийским библиотекарем Андроником Родосским, когда он, классифицируя сочинения Аристотеля, ввел термин «метафизика», с тем чтобы поместить философские работы Аристотеля о первопричинах за работами по физике. Греческое слово meta – за, после. [63] Исторически представление о метаязыке впервые возникло в Древней Индии. В работах индийских ученых того времени использовался особый грамматический язык для описания санскрита (см., например, статью «Язык» в [Спиркин, 1970]). Индийским логикам была понятна и необходимость разграничения высказываний, сделанных на объектном языке и метаязыке. [64] А.Тарский (р. 1901 г.) – польский ученый, один из основных представителей Варшавской логической школы, в 1939 г. эмигрировал в США, где стал профессором математики Калифорнийского университета. О фундаментальных идеях Тарского в области логической семантики см. статью Е.Д.Смирновой и П.В.Таванца [1967]. Работа Тарского Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen («Понятие истины в формализованных языках»), которая здесь имеется в виду, недавно переиздана в Текстах по логике К.Берки и Л.Крейзера [Berka, Kreiser, 1971]. [65] Таким образом, можно вложить специфический смысл в слова Витгенштейна: «Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности» [1958] (парадокс 6.41). [66] Но Витгенштейн остается последовательным. Вот что он говорит о собственных высказываниях в своем предпоследнем парадоксе (парадокс 6.54): Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью – на них – выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того, как он взберется по ней наверх). Здесь Витгенштейн уже ясно понимает недостаточность языковых средств для объяснения чего-то, что находится на следующей ступени иерархического уровня мышления. Трактат заканчивается следующим высказыванием: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (парадокс 7). [67] Рассматриваемых, разумеется, вместе с их значениями. [68] Логические переменные – знаки, вместо которых могут подставляться обозначения различных конкретных мыслей; логические постоянные служат для обозначения какой-либо одной мысли. [69] Эти соображения были мне подсказаны профессором Дёрффелем из ГДР. [70] Здесь используется аналогия: если к полиному y=b0+b1x1+b2x2 прибавить член, характеризующий взаимодействие переменных, то мы получим уже нелинейную (по переменным) модель у=b0+b1x1+b2x2+b12x1*x1. [71] Словосочетание tout à coupобозначает вдруг, внезапно. Слова, входящие в это словосочетание, взятые в отдельности, обозначают: tout – весь, целый, всякий, целое, главное, совсем, совершенно... coup – удар, толчок, случай, поступок, выстрел. à – предлог, в сочетании с именем существительным выражает те же отношения мысли, что русские окончания косвенных падежей; французские конструкции с предлогом à соответствуют одному из этих падежей без предлога или с одним из предлогов: в, для, до, за, через, к, на, над, о, от, перед, но, под, после, при, с, у, через (из Франко-русского словаря К.А.Ганшина, «Советская энциклопедия», 1930). [*1] Энтимема (греч. enqumhma) – неполно выраженный силлогизм; в данном случае в рассуждении мальчика опущена одна из посылок. [*2] Одним из таких многозначных вопросов является вопрос: «Что есть добро?» «Если, – пишет Мур, – я задам себе вопрос, как определить добро, мой ответ будет: «...его нельзя определить, и это все, что я могу сказать, каким бы разочаровывающим ни был этот ответ». Мур, в частности, подвергает лингвистическому анализу [Moore, 1959] парадоксальное утверждение английского философа Брэдли о том, что «время нереально», и показывает, что под этими словами понимается здесь нечто совсем другое и необычное, отличное от того, что понимают люди в своей обыденной речи. Другим примером может служить анализ Муром утверждения, что «Вселенная духовна». «Здесь в слово «духовна», – говорит Мур, – вкладывается очень уж много различных смыслов. Если Вселенная будет объявлена духовной, – продолжает он, – то... стулья, столы и горы, представляющиеся нам столь отличными от нас, будут казаться более похожими на нас, чем мы думаем» (подробнее о Муре см. краткую, но хорошо написанную статью Пола [Paul, 1956]). Много раньше о неправильном употреблении слов писал Гельвеций в своем трактате Об уме (1785 г.) [Гельвеций, 1938]. Там одна из глав так и называется – «О неправильном употреблении слов». Аргументация Мура удивительно похожа на аргументацию Гельвеция. [*3] Книга Геллнера Слова и вещи посвящена критическому анализу основных идей английской «лингвистической школы». Она читается с большим интересом, критицизм автора не носит навязчиво-раздражающего характера. Ср. также критическое изложение взглядов этой школы, содержащееся в упоминавшейся уже нами книге М.С.Козловой. «То обстоятельство, что многие философские проблемы анализа языка науки и философии, – читаем мы у М.С.Козловой, – на несколько десятилетий попали в почти безраздельное владение неопозитивизма, не дает основания для сомнений в реальной значимости этих проблем» [1972, с. 24]. [*4] Вывод этот, конечно, не изобретение автора этих строк. В литературе он подчеркивался неоднократно (например, в работах С.А.Яновской). [*5] Уже после того как работа над рукописью первого издания этой книги была закончена, мне удалось познакомиться с книгой [Popper, 1962], в которой автор опирается на теорему Гёделя при критике концепции искусственного языка науки у логических позитивистов. [*6] Дальше, вероятно, появляется необходимость в толковании сказанного, и не раз упоминавшийся нами Трактат [Витгенштейн, 1958] также нуждается в таком толковании. Но всякие толкования обедняют мысль. Когда оригинальный мыслитель пытается изложить свои идеи в «толковательной» манере, они выглядят слишком уныло. [*7] Бейес Томас (1702, Лондон – 1761, Танбридж Уэллс) – представитель первого поколения английских религиозных диссидентов, не подвергавшихся преследованиям. Его отец, Джошуа Бейес, был весьма уважаемым богословом нонконформистского направления и принадлежал к группе тех шести церковнослужителей, которые впервые были публично посвящены в сан как нонконформисты. После получения домашнего образования Бейес начал помогать отцу в Холборнской пресвитерии в Лондоне. В зрелые годы он был пастором церкви в Танбридже Уэллс... В 1742 г. он был избран членом Лондонского Королевского общества. Написал он немного: единственные работы, опубликованные при его жизни, – Божественная благосклонность (1731) и Введение в учение о производных (1736). Последняя является ответом на Аналиста епископа Беркли – яростную атаку на логические основания ньютоновского исчисления; ответ Бейеса был, пожалуй, наиболее разумным из всех, имевшихся в то время. Имя Бейеса осталось в истории благодаря короткому Эссе о решении задачи в учении о случае (1763) – первой попытке выявить основания статистических выводов (Dictionary of Scientific Biography, 1970, v. I). [*8] Концепция субъективной вероятности была впервые введена Рамзеем в 1926 г. [*9] Можно задать вопрос: нужно ли нам такое сложное представление результатов анализа вещества в пробе, как это дано на рис. 2. Ответ здесь зависит от постановки задачи. Если речь идет о массовом приемочном контроле, то, наверное, нам это будет не нужно. Но в нашей деятельности могут встретиться и такие задачи, когда по результатам анализа, выполненного вблизи границы обнаружения, придется принять ответственное решение, и тогда, конечно, бейесовский ответ нам покажется привлекательным. [*10] Существует большая литература, посвященная техническим приемам оценки субъективных вероятностей (см., например, [Winkler, 1967], где приведена и библиография наиболее важных работ). При разработке этих приемов исходят из следующих требований: 1) эксперт должен подчиняться постулатам согласованности; это значит, что свои суждения он должен выражать так, чтобы они соответствовали представлениям, существующим в теории вероятностей; 2) суждения эксперта должны быть численными выражениями его личного мнения. Первое из этих требований легко проверяется, второе – нет, поскольку речь идет только о чисто субъективных представлениях, не отвечающих какой-либо объективно существующей реальности, или, может быть, здесь нужно сказать аккуратнее – реальности, существующей вне эксперта. Оценка субъективной вероятности – это очень интересная психологическая задача. Если мы можем утверждать, что человек действует вероятностным образом, то отсюда еще не следует, что он обладает способностью выражать свои суждения в системе вероятностных представлений, принятых сейчас в математической статистике. Реальные эксперименты по оценке субъективных вероятностей ведутся обычно так, что мысленно разыгрывается некоторая лотерея и эксперт делает ставки на пари. При этом оказывается, что разная постановка вопросов приводит зачастую к разным результатам. Приходится сталкиваться и с другими трудностями. Может, например, оказаться, что у эксперта сумма вероятностей равна 1,2. Что будет он делать в этом случае? Один раз он может пронормировать к единице, путем деления на 1, 2, другой раз будет вычитать что-то из некоторых вероятностей так, чтобы сумма их оказалась равной единице. Далее опыт показал, что наивные эксперты имеют тенденцию к построению усеченных функций распределений, приравнивая вероятность маловероятных событий просто нулю, а не числам, близким к нулю. Во всяком случае, ясно, что эксперты должны проходить курс предварительного обучения. Надо также считаться и с тем, что оценки вероятностей, сделанные в разное время, могут быть существенно различными, и это надо рассматривать как естественное поведение экспертов. [*11] Напомним высказывание: «Молчаливые соглашения для понимания разговорного языка чрезвычайно усложнены» [Витгенштейн, 1958] (парадокс 4003). [*12] «Априорное», «априори», конечно, употребляются здесь так, как это принято в теории вероятностей и математической статистике. [*13} Впервые эта модель языка была нами кратко сформулирована в работе [Andrukovich et al., 1971] при изучении языка абстрактной живописи. [*14] С этим парадоксом связаны интересные предания, показывающие, как трагически он воспринимался. Греческий философ Диодор Кронос, убедившись, что не может разрешить этот парадокс, умер от огорчения, а некий философ Филит Косский покончил жизнь самоубийством; философ-стоик Хризипп посвятил этому парадоксу три книги [Кондаков, 1971]. [*15] Свойственного преимущественно первобытным цивилизациям [Леви-Брюль, 1937]. [*16] «Стягивания»: strap – полоса для плотного стягивания. [*17] Это высказывание обычно рассматривается как свидетельство субъективистской настроенности его автора. Уместно, однако, заметить, что приводимое высказывание поддается вполне рациональному истолкованию, быть может, вопреки тому, что «на самом деле» думал Витгенштейн. Назад в раздел |
||||
| © Ж.А. Налимова-Дрогалина, В.Я. Голованов, А.Г. Бурлука, ООО "БОС" | |||||