Василий Васильевич
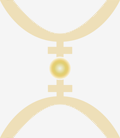 |
1993 – Мы стоим перед тайнойЧеловек в точке «ОМЕГА»Интервью профессора В.В. Налимова Познакомить читателя с профессором В.В. Налимовым редакция хотела давно. Да все как-то не получалось. Несколько раз договаривались встретиться, но всякий раз что-то мешало. Наконец встреча с Василием Васильевичем состоялась. О чем шел разговор, читатель узнает из публикуемой беседы. Но прежде чем перейти к ней, хотелось бы сказать несколько слов о нашем собеседнике. Василий Васильевич – человек во многом необычный, примечательный. Каждая его публикация поражала нетрадиционностью, нестандартностью, была как бы «не от мира сего». У Налимова на все свой взгляд. И такое отношение к миру – в какой-то степени следствие настойчиво разрабатываемой им научной концепции, которая распространяется не только на философские аспекты математики, но и на историю, культуру, философию. В наше время мало кто из профессионалов – отсюда и пошло выражение «профессиональный кретинизм» – свободно читает на нескольких языках. Не каждый психолог в случае необходимости возьмется за постижение математических представлений, скорее – если уж понадобится решить математическую задачу – обратится к профессионалу-математику. Принцип же Налимова – во всем разобраться самому. И если ему потребуются знания психологии, то он сам станет психологом, а если физики – физиком. Мне кажется, в лице профессора В.В. Налимова мы имеем дело с подлинно университетским ученым, профессором, который не только готов учить кого-то, но на протяжении всей своей трудной жизни учился сам. Жизнь поставила Василия Васильевича в положение вечного ученика, призванного одолеть жесткую и трудную грамоту и высшую алгебру жизни. Родился В.В. Налимов в 1920 г. Готовился стать математиком, а потом физиком. С 1936 по 1954 год – типичная судьба интеллигента: тюрьма, лагеря Колымы, ссылка в Казахстан. Потом инженерная работа в заводских лабораториях и НИИ. Последующая специализация в области математической статистики и применения статистических методов при анализе вещества, математических методов планирования эксперимента, разработки вероятностной модели языка, наукометрии, философии науки, философии человека. С 1965 г. он работает в МГУ. Опубликовал более 150 статей и 12 книг. Во время нашей беседы Василий Васильевич показал свою последнюю книгу. Она называлась «Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности». А разговор начался с вопроса о том, как бы она осуществлял реформу образования в России. В.Н. Мне кажется, реформа системы образования должна начинаться с реформы университетского образования. Сделать что-либо в школе сегодня трудно, а может, и невозможно. Педагогический корпус школы искорежен практикой предыдущих лет. Некоторые мои коллеги в последние годы пытались преподавать в школе, но не выдерживали столкновения с ее реалиями и сбегали оттуда, не проработав и года. Общая атмосфера в школе слишком тяжелая. Не думаю, что что-то может быстро измениться. В нашем обществе сложилось представление об учителе как о каком-то недоучке, человеке третьего сорта. Если все другие пути человеку заказаны, то остается один путь – в учителя. Так было и пока сохраняется, хотя и есть исключения. Самое же неприятное, что детям уже с начальных классов учиться неинтересно. О.Д. А вам не кажется, что учиться в школе во все времена было неинтересно, если только у ребенка не было собственного, личного интереса? В.Н. Я учился в двадцатые годы. И могу утверждать – тогда в школе было интересно. Этот интерес был связан с тем, что педагог был личностью. О.Д. А каким был ваш путь в Московский университет? В.Н. Еще в юности я интересовался философией. Собственно, за этот интерес и поплатился. Когда я возвратился после всех ссылок, тюрем, лагерей к нормальной жизни, мне пришлось сначала поработать редактором журнала ВИНИТИ. Выручило знание иностранных языков. После я создал математическую лабораторию в Институте редких металлов. Здесь же написал свою первую книгу по статистическим методам в химическом анализе и отнес ее А.Н. Колмогорову. Он познакомился с книгой и предложил сделать доклад у него на семинаре. Потом был часовой доклад на международной конференции в Тбилиси. Затем Колмогоров создал межфакультетскую лабораторию статистических методов, мне предложили стать первым заместителем руководителя этой лаборатории. Это тем более удивительно, что я не был учеником Колмогорова. Кроме того, за мной долго тащился «хвост»: я не был реабилитирован до 1960 г., была только снята судимость. И вопреки тому, что мне говорили: «Ты не проработаешь с ним и двух-трех месяцев», я с Колмогоровым проработал десять лет. После сложилась ситуация, при которой лабораторию расформировали. Но я продолжаю работать в МГУ. Во время работы в Гиредмете мне приходилось читать отдельные курсы лекций на химфаке университета, что-то читал в МХТИ. Вообще, педагогическая деятельность очень важна тогда, когда то, что ты читаешь студентам, совпадает с тем, над чем работаешь. Слушатели задают вопросы, идет обсуждение. Без такого общения все заклинивается. В то же время мои попытки читать общий курс математической статистики оказались и утомительными, и неинтересными – из года в год читаешь одно и то же. Поэтому-то мне и кажется, что при перестройке университетского образования количество лекционных курсов надо сокращать. Студент должен заниматься по книгам. Лекции нужно сохранить там, где они важны принципиально. Когда человек начинает изучать, допустим, исчисление бесконечно малых, то для него это принципиально новое мышление. И здесь хорошо прочитанные лекции необходимы. Когда же мы переходим к детальному рассмотрению исчисления бесконечно малых, то тут уже можно все понять по книге. О.Д. Василий Васильевич, в начале нашего разговора вы сказали, что реформу образования надо начинать с университета. Как вы себе это представляете? В.Н. Первое. Мне кажется, каждому университету важно обрести индивидуальное лицо. Стандартных университетов не должно быть. И по подходу, и по структуре, и по организации они должны друг от друга отличаться. Второе – нужно перенять некоторые принципы американского университета, когда студент имеет право выбирать себе профессора и под его руководством составлять свою программу обучения. Стандартных программ подготовки в университете быть не должно. Важно, чтобы программы были гибкими, легко варьируемыми. Эти вариации должны не только фиксировать изменения в состоянии науки, но и зависеть от того, кто является профессором. И, конечно, если нет подходящего профессора, то ни о какой подготовке не может быть и речи, даже если направление подготовки крайне важное. Итак, нужны индивидуальные планы. Подготовка по единым планам во всей стране – бессмыслица. На словах с этим никто не спорит, но на практике остается по-старому. Все так же доминирует кафедральная, а не профессорская подготовка. Но кафедра может использоваться для научных целей, подготовка же должна быть индивидуальной. Не знаю, нужны ли на самом деле кафедры как таковые. Но необходимы условия для образования научных коллективов вокруг той или иной темы. Заметьте, темы, а не специальности. И наконец, не надо из университетов выпускать специалистов. До революции в университетах если и была специализация, то очень широкая. Задача университета – создать условия для становления интеллигентного человека. Под этими словами я понимаю подготовку личности, умеющей критически мыслить и имеющей для этого базу. Этот человек должен не обучаться на репродуктивном материале, а быть ориентированным на решение новых нестандартных задач в процессе индивидуального осмысления, формулируя идеи, в которые он сам может поверить, а поверив, проповедовать и отстаивать. Возможности специализации у выпускника потом появятся. По своему опыту могу сказать, что вся последующая жизнь – сплошная специализация. Что-то основное, очень немногое было заложено в университете, всему же остальному пришлось учиться самому. Проблема воспитания интеллигентного человека для нас крайне важна. Школе сегодня в первую очередь нужен интеллигентный человек. Ученик не мешок, и не надо в него напихивать знания. Нужно пробуждать интерес к знанию. Мы же стараемся набить голову учащихся доверху всевозможной информацией. Но это же страшно скучное занятие: Всю эту информацию человек, если только он интеллигент, воспримет сам. Найдет нужные книги, пролистает их и возьмет то, что нужно. Вопрос можно поставить и шире. Трагедия современной культуры, в том числе и западноевропейской и американской, состоит в том, что все ее содержание разнесено по отдельным сусекам. Каждый что-то знает – но в очень узком ракурсе, каждый куда-то движется, боясь сбиться с выбранной дороги – это грозит потерей квалификации. Скажем, в Америке нужно обязательно двигаться по одной строго определенной тропе. Выбрал – и иди дальше, не допуская ни шага в сторону. Там трудно опубликовать книгу, которая затрагивала бы несколько научных дисциплин. Издательства, как правило, специализированные: если математика, то это должна быть чистая математика, если философия, то чистая философия, а математика при решении мировоззренческих задач – это нонсенс. С этим мне пришлось столкнуться, когда я попытался издать там свою последнюю книгу. О чем это свидетельствует? О том, что выход на целостное знание в общем-то запрещен. Следуя этой логике, печатать книгу о математике для нематематиков – бессмысленная трата сил. Более того, это и опасно: может быть нарушен жизненный комфорт читателя. Но если культура разнесена по сусекам, то, значит, она не работает как целое. А по-лоскутному культура работать не может. В итоге она становится бесполезной для общества. Посмотрите, что происходит сегодня. Люди учатся-учатся, а потом вдруг кидаются в астрологию, магию, хватаются за совершенно нелепые представления и понятия, которые не выдерживают никакой мало-мальски серьезной критики. И эти чудовищные представления увлекают людей, потому что в умах и душах образовалась пустота. Они во всем разочаровались и оттого готовы хвататься за все новое или очень старое и, как им кажется, содержательное. Складывается ощущение, что знания, которые люди вроде бы получили за время жизни, отскакивают от них как от стенки горох. Свою специальность они знают, а вот общекультурного понимания, широты мировоззрения не имеют. Все это не может не отразиться на нашей политике в школьном образовании. А значит, нельзя решить ряд важных проблем. Скажем, проблему человека необходимо решать так, чтобы перебросить мост от сознания человека к природе самосознания и к связи сознания с физической материей. Как это сделать? Недавно мне пришлось побывать в Германии на конференции, посвященной проблеме самоорганизации в современной науке. Я считаю, что, к сожалению, конференция не получилась. Люди, даже специалисты, к такой широкой постановке вопроса оказались не готовы. А ведь проанализировать происходящие процессы было бы весьма интересно; стоит попытаться понять, как идет самоорганизация на всех ее уровнях, начиная от происхождения Вселенной и кончая самоорганизацией человека в его творческом начале. Образование надо строить таким образом, чтобы студент за первые три-четыре года сумел охватить весь горизонт науки, включая математические, естественнонаучные и гуманитарные дисциплины, религию и даже искусство, а потом уже немного специализации. О.Д. А реально ли это? В.Н. Я бы ответил на вопрос так: если это не сделать, то катастрофа цивилизации будет все ближе и ближе. Мы все дальше и дальше будем уходить в неведомое. Возьмите современного философа: разве он знает математику, космогонию, теоретическую физику? Таких людей единицы. И не случайно появление на Западе работ, авторы которых задаются вопросом: чем вызвано такое положение дел, при котором философия перестала развиваться? Складывается ощущение, что после Хайдеггера произошла остановка в развитии или началась, говоря современным языком, перестройка философии. Мне думается, происшедшее явилось следствием того, что философия оказалась вне науки. Кант знал науку. Сам ее преподавал. А сейчас философы науки не знают. Философские идеи в наши дни полнее всего выражаются в физике и космогонии. Не последнее место принадлежит и математике, которая воспринимает мир через геометрические образы. До недавнего времени наука черпала свои образные средства преимущественно из повседневной жизни. Сегодня они иссякли. Ощущается дефицит новых образных средств. И найти их мы можем в математике и теоретической физике. Как оказалось, в своей работе я руководствуюсь некоторыми идеями Платона. Я предпринял попытку выразить их на математическом языке. И, кажется, на языке математики я могу сказать намного больше, чем мог сказать Платон. Например, Платон вроде бы приближался к теории множеств, но подойти вплотную не смог, не хватило нужных понятий. Он затрагивал проблему целостности и опять же слов не хватило. Он понимал, какую колоссальную роль играет число. Но все, что он говорил, звучало как призывы. Он понимал очень много, но сказать о многом не умел. Я же, сам того не осознавая, использовал идеи Платона, вводя аксиоматику, применяя современную математику… Новое изложение стало возможным благодаря тому, что я использовал образы из математики и теоретической физики. Но вернемся к вопросу, возможна ли реализация предлагаемого мною преобразования университетского образования. Я считаю, что попытаться что-то сделать в этом отношении нужно, хотя легко осуществить реформы не удастся. Сопротивление будет очень большим. С одной стороны, многие профессора останутся не у дел. Нелегко сейчас найти профессора, который может поведать неспециалисту о каком-нибудь разделе математики или теоретической физики и космогонии. Рассказать так, чтобы изложение было не очень поверхностным. Например, сообщить биологу о том, что собой представляет топология и как она сейчас применяется в физике, и сделать намек о возможностях ее использования в биологии, тем самым создав предпосылки для своеобразного трансфера образных средств. В качестве примера сошлюсь на ситуацию в биологии. Математика начала использоваться в биологии достаточно широко. В мире выходят книги, посвященные вопросам математики в биологии. Но кто из биологов их читает? Я работаю в лаборатории теории математического эксперимента биофака. (Сейчас, в связи с изменившейся потребностью, наша лаборатория поменяла свою ориентацию – теперь она стала называться лабораторией системной экологии.) Чем занимаются мои сотрудники? Они работают как ремесленники-математики. Биологи им дают данные, они их обрабатывают, просчитывают и выдают результат. При этом в биологическую сторону проблемы они не углубляются. Биологической интерпретации своим результатам не дают. Я все время призываю: «Начните решать какую-нибудь биологическую проблему!» Но изменения идут очень медленно и вяло. В настоящее время, занимаясь проблемой человека, я не опираюсь на помощь психологов. Все делаю сам. Беру то, что мне нужно. Поэтому вопрос ставится так: можем ли мы найти преподавателей и нужных студентов? Надо попробовать. Университет должен стать свободным объединением ученых и студентов. Наш университет своему названию не соответствует. Факультеты разъединены. Контакты между ними слабые или их вовсе нет. Университет же должен охватывать не только науку, но и культуру в целом. О.Д. А не значит ли, что сама традиционная трактовка науки, ее классификация, система целей, зафиксированная в университете, его структуре, себя исчерпали? В.Н. Конечно, университет должен возродиться в новом качестве, определяемом основной задачей – объединить, собрать культуру как целое. Если университет сможет приобщить своих воспитанников к культуре как единому, целостному, то тогда появятся и учителя для школы. Тогда, кстати, появятся и политические деятели, способные мыслить. О.Д. А какое, по вашему мнению, место принадлежит искусству в высшем образовании? В.Н. По теореме Гёделя, всякая достаточно богатая логически система неполна, если непротиворечива. В ней обязательно найдете высказывание, которое не доказывается… И тем не менее построение таких теорий интересно. И если вводить в них при этом элементы эстетические, то мы получаем возможность дальнейшего продвижения, так что элемент эстетизма в теориях должен присутствовать. Я развиваю вероятностную модель сознания. В пользу своего подхода могу выдвинуть ряд положений. Эта теория мне представляется достаточно изящной, обладающей довольно большой объяснительной силой. И тут я уже перехожу к категориям, близким искусству. С помощью искусства, в частности медитации, я пытался выявить способы поддержки моих теоретических высказываний. Такие медитации в течение восьми лет проводились с группой профессиональных художников. В результате сеансов появились, с одной стороны, словесные протоколы, а с другой – образы, картины. Это наталкивает на очевидную мысль: идя к сознанию, мы должны начинать путь с искусства. О.Д. И как вам видится учебный процесс? В.Н. Скажем, читается лекция на очень абстрактную тему. Допустим, посвященная уравнению Шрёдингера. И после такой лекции стоило бы устроить сеанс медитации. В результате, может быть, удалось бы выйти на стадию тех первичных смыслов этого уравнения, которые на уровне нашего традиционного состояния серьезно заблокированы. Академик Л.И. Мандельштам в свое время говорил о разных степенях понимания. Вот приходит студент на экзамен, отвечает на все вопросы и в итоге получает слабую оценку. «В чем дело, – спрашивает он, – я же на все вопросы ответил?». – «Да, вы на все вопросы ответили, но ничего не поняли». По Мандельштаму, степень понимания определяется не столько дальнейшим углублением в теорию, сколько способностью к обсуждению парадоксов, имеющихся в теории. Процесс понимания, с моей точки зрения, заключается в стремлении приблизить изучаемый текст к себе. Все смыслы в мире существуют изначально. Они упорядочены на числовой оси, образуя семантический вакуум. В нем все есть, но ничего не проявлено – нет селективности. Смыслы возникают, когда появляется мера, задаваемая плотностью вероятности. Это уже текст – в нем есть система предпочтения. Персональное понимание осуществляется путем обращения к личностному, опять-таки вероятностно задаваемому фильтру. Скажем, я задаюсь вопросом: был ли Лысенко дарвинистом? Отвечаю: конечно, был. Он знал теорию Дарвина. Без нее он ничего бы не сделал. Но он использовал фильтр, придающий большой вес только хвостовой части вероятностной структуры дарвиновского текста. Что собой представляет историческое понимание? Возьмем историю Европы последних тысячелетий. Бесконечные религиозные войны, нескончаемый процесс возникновения новых церквей, новых религиозных сект. Откуда этот процесс берет свое начало? Исходные тексты были созданы около двух тысяч лет тому назад, а дальше каждая эпоха по-своему воспринимала эти исходные тексты. Возьмем, к примеру, секту скопцов. В Евангелии где-то сказано: отруби себе руку, если она соблазняет тебя. Скопцы использовали фильтр типа дельта-функции, ориентированный на соответствующий участок текста. Развитие культуры – это непрестанное возникновение новых фильтров. О.Д. Получается, что сама жизнь содержит бесчисленное множество смыслов, а культура отфильтровывает только некоторые из них. В итоге система смыслов развертывается в систему действий. Но любая концепция в конечном счете сама себя исчерпывает, и возникает проблема переопределения в социокультурном пространстве. В.Н. Такое переосмысление идет непрестанно. По мере развития своих представлений приходится кое-что в подходах менять. В частности, в книге «Вероятностная модель языка» я исходил из представления, что смыслы на числовой оси задаются текстом. Сегодня же мне представляется, что смыслы жестко заданы изначально. Последовательность смыслов определена. Конечно, возможно теоретически представить процесс «перемешивания» точек оси, но в таком случае нарушится гладкость кривой распределения. Человек, оперирующий негладкой функцией распределения, с нашей точки зрения, будет не вполне нормальным или принадлежащим к совершенно другой культуре. В пределах культуры могут создаваться разные тексты, но культура остается одной и той же, пока в ней сохраняется одна и та же упорядоченность смыслов на числовой оси. Если же мысли разупорядочиваются, то возникает другая культура. О.Д. В чем состоит квинтэссенция той идеи, которая для вас является основополагающей? В.Н. Я развиваю вероятностно-ориентированную философию. Я хочу понять, что есть человек. О.Д. А какое место в ней занимаете вы сами? В.Н. Я просто один из тех, кто думает над природой человека. Для меня проблема человека является центральной не только потому, что она интересна лично мне, но и потому, что она является центральной проблемой философии, которая, как полагают многие, перестала развиваться. Развитие философии человека, на мой взгляд, затормозил в свое время еще Декарт. О.Д. А каково ваше отношение к российской философской мысли? В.Н. Достаточно скептическое. С интересом я относился к Бердяеву. Но его работы – это не философия, а скорее философская публицистика. Что же касается религиозной философии, начиная от Соловьева и кончая Булгаковым и Флоренским, то она меня всегда мало привлекала. Уж очень силен у них оттенок православия. Православие же, с моей точки зрения, – давно остановившееся в своем развитии учение. Прогосударственное, очень жестокое, суровое, как Политбюро. И мне кажется, сама приверженность православию всегда мешала нашим религиозным философам. Они никогда не могли довести свои мысли до конца. Незримо в них присутствовал страх – не попасть в разряд еретиков. И такая заидеологизированность не позволяла развернуться мыслям. О.Д. Не складывается ли у вас впечатление, что в неявной форме элементы православного сознания присутствуют в нашей жизни, более того, определяют ее ход. Например, апофатическое знание присутствует в нашем отношении к жизни. То, что мы знаем, что нам дано было познать, для нас уже не представляет никакого интереса. Нам обязательно надо, отбросив все, дойти до края познанного, с тем чтобы устремиться в переживание неизвестного... В.Н. Это как раз мне и симпатично в апофатическом богословии. Эта же сторона была сильно развита у гностиков. Мне-то как раз представляется, что понимание Бога в православии чрезвычайно антропофизировано, чрезвычайно примитивно. Трагедия русского православия в том, что у нас не было Лютера. О.Д. А вам не кажется, что Л.Н. Толстой в некотором роде был неудавшимся Лютером? В.Н. Толстой был слишком рационален. Он не чувствовал мистической стороны христианства. Он все сводил к этической проповеди. Я был знаком с многими толстовцами. Относился к ним с большим уважением. И, смотрите, что поражает: Толстой – художник, почти поэт – и рационалист. Из-за своей рационалистической сухости он не смог далеко продвинуться. Проведу аналогию с процессом зрения. Известно, что спектр видимого излучения расположен в диапазоне от 4 до 7 тыс. ангстрем. На самом деле мы не воспринимаем ни длину волн, ни энергию квантового излучения: мы воспринимаем цвета. Способность цветового восприятия аналогична способности восприятия смыслов, запечатленных семантическим вакуумом. Последовательность цветов нам задана. Но, заметьте, и здесь есть дыры. Пять процентов мужчин – дальтоники. И в ранних культурах, скажем африканских, весь цветовой спектр не был известен. Например, фиолетовый цвет не отличался от голубого или зеленого. Коротковолновая часть спектра была как бы закрыта. Еще в юности мы лаборатории проверяли, сколь далеко мы видим в коротковолновой области. Диапазон оказывался значительным – от 4 до 3,6 тысячи ангстрем. В этом интервале одни видят, а другие нет. Так же как в семантическом поле есть размытые границы, есть черные дыры – это все индивидуально. Может быть, различные объединения людей – религиозные, философские, политические – определяются способностью к восприятию семантического поля. Кто-то от рождения неполноценен – как дальтоник. Моя идея такова – нужна геометризация сознания. Ведь в последние 150 лет физика развивалась через геометризацию. Чтобы перебросить мост между физикой и сознанием, нужно геометризовать последнее. А если мы хотим связать биологию с сознанием, мы должны геометризовать и науку о живом. Ведь настоящих биологических моделей у нас не получается потому, что они не геометризованы. Говорят, например, о биологическом поле. Но что под этим имеется в виду? Не ясно. Понятие биологического поля не разработано. Мы должны понять, что значит биологическое поле, что такое его метрика. Мы знаем, что нужно менять метрику, используя кластер-анализ. В итоге можно столкнуться с ситуацией, когда будет найдена метрическая структура, допускающая хорошую интерпретацию описываемого события, явления... Перед нами стоит масса методологических вопросов, которые ждут своего ответа. О.Д. А как вы, Василий Васильевич, относитесь к работам Л.Н. Гумилева? В.Н. С Львом Николаевичем я был хорошо знаком. Не раз мы с ним обсуждали интересующие нас вопросы. В чем-то между нами были существенные расхождения. Но серьезного научного контакта у нас не возникло. Что же касается его идеи пассионарности, то мне она нравится. Нравятся и некоторые его высказывания. Например, о Великой степи. Конечно, это – мнение не историка. Но вот каким дефектом, мне кажется, страдают работы Гумилева. В них нет философского осмысления проделанного им. Пассионарность у него просто зафиксирована, он описывает отдельные ее проявления. Но, спрашивается, каковы механизмы проявления пассионарности? Насколько они связаны с природой человека? Затронута колоссальная проблема, а человека в ней нет. Сейчас я стараюсь пользоваться несколько иным термином – «романтизм». Под ним я понимаю не направление в литературе, скажем, XIX века, а некоторую субстанциональную потребность человека, которая и приводит общество к пассионарности. За примерами далеко ходить не надо. Так, романтизм лежал в основе фашизма, одна из наиболее развитых стран приняла его с легкостью необычайной. А разве наша революция – не романтика? Вот где психология человека раскрывается. Так что в каком-то смысле я пытаюсь пойти дальше Гумилева, выйти на новый уровень знания. О.Д. А что вы понимаете под знаниями? Ведь то, что публикуется в книжках, – не знание. Это тексты, которые могут привести к знанию. Но само знание гораздо шире инициируемого любыми текстами. В.Н. Я уже несколько раз излагал свою точку зрения на этот вопрос. Полагаю, что наше знание – это аргументированное незнание. Об этом еще в XIV в. говорил Николай Кузанский. Но сейчас для этого утверждения имеются совсем другие основания. Например, современная космогония представлена массой теорий. Раньше все люди знали, что акт творения продолжался шесть дней. За две с лишним тысячи лет это положение прочно вошло в сознание людей. И ныне находятся люди, поддерживающие эту точку зрения. И все-таки это был единый взгляд. Сегодня перед нами множество теорий. И мы не знаем, какая из них может выдержать испытание экспериментом. Получается, что на смену прежнему вульгарному знанию пришло аргументированное незнание. Мы понимаем, как сложна проблема. Перед нами образ очень сложной Вселенной, задаваемый различными теориями. Мы не можем выбрать одну из них как единственную истинную. Перед нами – тайна. И со временем горизонты этой тайны расширяются. Они становятся все более зримыми для нас. Но разрушать тайну, наверное, не надо. Или вот еще пример – математика. Что было во времена Канта? Трехмерная геометрия Евклида. Сегодня наряду с евклидовой геометрией нам известно множество геометрий, причудливых и необычных. Мы не знаем только, в какой геометрии мы живем. И, наверное, никогда об этом не узнаем. И, может быть, этих геометрий на самом-то деле нет. Геометрия это не что иное, как наша возможность упорядочить внешний мир. Так что мы не можем дать ответ даже на вопрос, какова геометрия мира, в котором мы живем. Расширенное представление о геометриях углубило наши знания о возможных формах пространства и одновременно обернулось аргументированным незнанием. На практике мы выбираем ту или иную, которая более удобна для описания конкретного случая. Но не можем сделать выбор и сказать, какая из представленных точек зрения правильна. И поэтому, наверное, нужно говорить так: есть тайна, которую наука расширяет и углубляет. И так же нужно видеть мир: мы стоим перед тайной. Назад в раздел |
|||
| © Ж.А. Налимова-Дрогалина, В.Я. Голованов, А.Г. Бурлука, ООО "БОС" | ||||